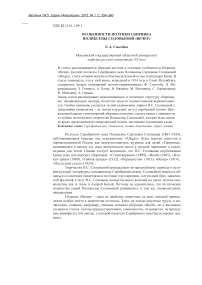Особенности поэтики сборника Поликсены Соловьевой «Вечер»
Автор: Снычва Екатерина Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются образная система и стилевые особенности сборника «Вечер» русской поэтессы Серебряного века Поликсены Сергеевны Соловьевой (Allegro), стихи которой получили благожелательный отзыв Александра Блока. В статье отмечается, что в этой книге, вышедшей в 1914 году в Санкт-Петербурге, содержится немало посвящений поэтам-современникам: Ф. Сологубу, Д. Мережковскому, З. Гиппиус, А. Блоку, В. Иванову, М. Волошину, С. Городецкому, Н. Минскому, А. Герцык. Автор статьи рассматривает композиционную и мотивную структуру сборника, его эмоциональную палитру, богатство средств художественной выразительности. Особое внимание уделяется тесной взаимосвязи лирики П.С. Соловьевой с традициями символизма - не только в русской, но и в зарубежной поэзии. Проведенный анализ стихотворений сборника позволяет сделать вывод о значимости и глубине поэтического творчества Поликсены Соловьевой, которая была одним из ярких представителей символистской поэзии, настоящим художником слова.
Серебряный век, символизм, поэты-декаденты, образ, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/146121642
IDR: 146121642 | УДК: 821.161.1.09-1
Текст научной статьи Особенности поэтики сборника Поликсены Соловьевой «Вечер»
Поэтесса Серебряного века Поликсена Сергеевна Соловьева (1867–1924), публиковавшаяся нередко под псевдонимом «Allegro», была хорошо известна в дореволюционной России как автор-составитель журнала для детей «Тропинка», занимавшего в начале xx века значительное место в детской периодике и книгоиздании для детей. Однако следует вспомнить, что П.С. Соловьева опубликовала также семь поэтических сборников: «Стихотворения» (1899), «Иней» (1905), «Плакун-трава» (1909), «Тайная правда» (1912), «Перекресток» (1913), «Вечер» (1914), «Последние стихи» (1924).
Творчество П.С. Соловьевой принадлежит интереснейшему периоду в истории русской литературы, называемому Серебряным веком. Соловьевой довелось общаться со многими писателями и поэтами этого времени, а ее родной брат, знаменитый философ и поэт В.С. Соловьев, оказал большое влияние на таких поэтов-символистов, как А. Блок и Андрей Белый. Поэтому не удивительно, что поэтическое творчество самой Поликсены Соловьевой развивалось в том же, символистском, направлении.
Сборник «Вечер» – одна из наиболее известных ее книг, которой принадлежит особое место в творчестве поэтессы. Здесь не только ощутимы грусть и меланхолия, ставшие, например, главным мотивом сборника «Иней», но и явственно слышатся голоса поэтов-предшественников, символистов, отзываются литературные манифесты той школы, с которой писатели Серебряного века были хорошо знакомы.
Подчас можно встретить утверждение, что стихи Поликсены Соловьевой лишены ярко выраженных индивидуальных черт. На наш взгляд, это не так. В «Вечере» – шестом по счету сборнике стихов (потом будут только «Последние стихи» 1924 года) мы видим сформировавшуюся, профессионально зрелую творческую личность, владеющую самыми многообразными художественными средствами и приемами настоящего мастера слова.
В сборнике «Вечер» 37 стихотворений, год написания ни в одном случае не указан. Следовательно, можно утверждать, что книга построена не по хронологическому принципу. Деления на разделы также нет, как нет и стихотворных циклов (если не считать завершающие книгу «Краткие мысли» [6, с. 56], своеобразные поэтические афоризмы в 4–8 строк о любви, разлуке, природе и красоте). Поэтому поначалу может создаться впечатление, что сборник лишен продуманной композиционной основы. Однако определенная логика в последовательности собранных в книге произведений существует. Стихи располагаются по законам внутренней, эмоциональной драматургии, постепенно уводя читателя от крайнего уныния, печали и грусти в начале сборника – к светлым проблескам надежды и весеннего возрождения в конце. Значительная часть образной системы свидетельствует о медленном переходе от омертвелого зимнего сна к зарождению яркого солнечного дня. Борьба столь разных настроений тяжела и мучительна, и ощущение меланхолической задавленности во многих стихотворениях сборника доминирует. Даже в конце книги, в стихотворении, посвященном А. Блоку, ритм движения к обновлению сбивается и вновь звучит мотив тоски и одиночества, преобладающий в первых стихотворениях «Вечера»: «И я всегда один…» [6, с. 7].
Анализируя сборник, нельзя не отметить еще одну особенность, присущую не только поэзии Соловьевой, но и творчеству других ее современниц-поэтесс (например, З.Н. Гиппиус). Повествование часто ведется от лица лирического героя. М. Волошин, давая характеристику «голосам» современных поэтов, писал: «Поликс<ена> Соловьева. Почти мужской контральто с женскими грудными нотами» [2, с. 461]. Эту характеристику мы находим в предварительном плане статьи М.А. Волошина «Голоса поэтов», где имя Соловьевой названо между именами Марины Цветаевой и Мариэтты Шагинян. Правда, в опубликованный в газете «Утро России» (1912, 21 июля, № 168) вариант текста упоминание о П.С. Соловьевой не вошло.
Сборник «Вечер» открывается коротким, в восемь строк, «Посвящением», в котором много сравнений, метафор и символов. Обращает на себя внимание «звукотемпературный» эпитет: день шумно-зноен . В начале книги в этом шумно-знойном дне плачет душа, и для нее «горний путь тяжел» [6, с. 5]. К солнечному, наполненному весенним оживлением и бодрыми голосами финалу сборника автор идет не спеша, отдавая дань меланхолическим, печальным настроениям. Мотив потери возлюбленной звучит буквально с первых строк сборника. Память об утраченной любви жива в душе лирического героя, но ему важно не потерять себя. Поэтому он признается: «…плакала душа, но дух мой был спокоен, / Как в вышине орел» [6, с. 5], «В душе горит огонь мой строгий» [6, с. 7]. Меланхолией пронизано и следующее после «Посвящения» стихотворение «Дары». Здесь лирический герой – «печальный и убогий», но в нем горит любовный огонь, от которого «плавится стих» и «золото созвучий» [6, с. 7].
Особое место в образной системе сборника «Вечер» занимает природа. В стихотворении «Тайны леса», состоящем из трех частей, природа молчит, но понимает и принимает мир героя, готова с ним слиться. В описании такой родственности поэтесса использует яркие, подчас весьма неожиданные, «составные» эпитеты и метафоры: «дух земли грибнисто-влажный» [6, с. 8], «в ласке торжественно-дикой» [6, с. 9], «пни золотятся под мшистым руном» [6, с. 9]. Лирическому герою видится тень его несчастной любви то в темном лесе, то в целой вселенной: «И люблюсь я, царевич печальный, / С темноокою Тайной лесной» [6, с. 10]; «…горит огонь вселенной / Во тьме любимых глаз» [6, с. 5]. Окказионализм люблюсь органично дополняет эмоциональную палитру произведения.
Стихотворение «Брат» по жанру – эпитафия. Брат, ушедший в «горний лес» «с молитвенно подъятой головой…» [6, с. 11], характеризуется эпитетами «тоскующий и бедный», ассоциирующимися с пушкинским «рыцарем бедным», который был «с виду сумрачный и бледный, / Духом смелый и прямой» [5, с. 180]. У Пушкина Дева Мария заступилась за покойного паладина, спасла его от беса, у Соловьевой с умершего рыцаря все проклятья снимает лес, природа. О том, что стало затем с паладином в раю, Пушкин не рассказывает, а Соловьева уточняет: рыцарь теперь – «гордый царь мечты своей победной, // Во-век свободный, юный и живой» [6, с. 11].
Следующее стихотворение, «Туманы», – пейзажная лирика, картина ночи, с языческими персонажами, неразрывно связанными с миром природы: это русалки и водяной, выглядывающий в разрывы тумана над рекой. Описывая чудесную, но страшноватую полночь, автор раскрывает магию природы, ее способность властвовать над людьми.
Стихотворение «Пыль веков», посвященное мэтру символизма Ф. Сологубу, – своего рода дань идее бренности мира и великой смертной скорби. Характерные словосочетания – веяния тоски, страдания детей, утомление великое , звучит напоминание «о неоплаканных могилах» [6, с. 13]. Здесь же нередкие у Соловьевой оксюмороны: например, «невинно-страшный лик». Лирический герой несет в душе «всю скорбь земли, всю пыль веков!» [6, с. 13]. К этому стихотворению органически примыкает следующее, с наречным названием «Неразрывно». По сути, это панегирик неизбежной смерти. Обреченность всего живого на смерть, по мнению автора, стимулирует ощущение неповторимости жизни, яркость чувств, жар поцелуя, страсть дыхания весеннего цветка: «Без тени смерти – страсти нет» [6, с. 14].
Центральный мотив стихотворения «Новый сон» – о том, что жизнь человека – всего лишь «сон божества». Но можно, «умирая, из светлой страсти / Создать великий и новый сон». Вероятно, имеется в виду некий творческий порыв, благодаря которому рождаются вдохновенные поэтические произведения, «вещие слова», заключающие в себе «все, чем, сгорая, душа томится» [6, с. 15].
Один из сквозных образов сборника – крест, наиболее характерный для начальных стихотворений, ср.: «кресты сосен», «черных елей кресты» («Туманы»); «кресты путей» («Пыль веков»); «кресты дорог» («В дороге»). Готовность нести свой крест выражает и лирический герой, признающий, что его «душа … покорна, / Ее огонь прохладно-чист…» [6, с. 16]. Символичны такие образы природы, как месяц, луна и звезды. Но месяц иногда суров: «с взглядом угрозным», он блестит, как карающее «лезвие» [6, с. 19], меч Немезиды. Крест – постоянный образ Соловьевой, он символизирует бренность и тленность мира. Так, в стихотворении «Старые письма» когда-то написанные слова – «как позабытые кресты» [6, с. 26]. В «Старом монастыре» при описании церковного погоста вновь упоминаются «кресты и мраморы гробниц» [6, с. 36]. В пейзаже стихотворения «Вечернее» просматривается «далекий крест над белой колокольней». Однако здесь, несмотря на признание героя: «Мне иволга про счастье не поет» [6, с. 37], – возникает мотив ожидания и надежды. Символ этих настроений – умиротворяющий «благовест вечерний» [6, с. 38].
Мотив грозного предупреждения звучит в стихотворении «Совесть», с довольно неожиданным метафорическим образом – криком петуха. Раздающийся «в час урочный», он должен разбудить грешную душу – «от безволья лени сонной, / От измены, затаенной / В тьме трусливого греха» [6, с. 23]. Заметим, что в славянской мифологии петух – воплощение огня, символа очищения.
Во многих стихотворениях сборника просматриваются образы и настроения, характерные для творчества французских поэтов-декадентов. В них отчасти проступает «Бодлера лик» (вспомним, как писал в 1913 году М. Волошин: «Я мысленно вхожу в ваш кабинет: / Здесь те, кто был, и те, кого уж нет, / Но чья для нас не умерла химера, / И бьется сердце, взятое в их плен… / Бодлера лик <…> святой Сатир – Верлен…» [2, с. 53]). Декадентские «химеры» не умерли и в творчестве Соловьевой, но не такие резкие, до натурализма, как у Бодлера, – преобладают усталость и меланхолия: «Без меня отцветают сирени, / Без меня соловьи отпоют…» [6, с. 22]. В стихотворении «Пробуждение» возникает весьма характерный и для западноевропейских декадентов, и для многих русских поэтов рубежа веков образ – «смерти дремлющий цветок» [6, с. 29]. В «Огненном холоде» смерть ассоциируется с зарей: «Встала смерть, как заря» [6, с. 28]. Сон, другой устойчивый мотив сборника, – «злой» (по Бодлеру, «сон – зияющий провал…» [1, с. 168]). Ночь у Бодлера – синоним смерти, она шествует, «с Востока волоча свой саван погребальный» («Раздумье» [1, с. 168]). Отсюда и отношение к сну как к ужасной бездне.
Название стихотворения «Мертвая пляска» («Нагие ветви, как мертвых кости, / Стучат, шатаясь во мгле небес» [6, с. 30]) вызывает ассоциацию с гетевской «Пляской мертвецов» (1815): «Пред сторожем в полночь рядами могил / Погост распростерся в молчанье, / И месяц на плитах холодных застыл / В холодном и чистом сиянье» [4, с. 183]. Но вместо «чистого сиянья» месяца у Соловьевой земля и небо «дышат влажно-холодным дымом». Поэтому «просвета нет» [6, с. 30]. У Брюсова тоже есть стихотворение «Пляска смерти», где смерть предлагает разным людям проплясать с ней до могилы.
В стихотворении «Городская весна», посвященном С. Соловьеву, появляются более светлые мотивы. В центре внимания – простые и радостные домашние хлопоты, разнообразные голоса прохожих. Город полнится весенним оживлением, просыпается от зимней «злой» спячки. Практически весь текст – из назывных предложений, своеобразный калейдоскоп жизни города. Почти то же в посвященном С. Городецкому «Майском утре», где автор, чисто по-женски умиляясь грубоватой простоте жизни, рисует обычную бытовую сценку: горожане со своим скарбом собираются на дачу.
Стихотворение «Февраль», которое, по логике смены времен года, должно бы располагаться до «Городской весны», размещено далее, так как в нем уже нет зимнего «злого» сна. Авторская интонация заметно меняется: ощутимы надежда и даже улыбка, хотя пока еще грустная. Весь текст строится на эпитетах: февраль тут изменчивый, улыбчиво-грустный, предвешний, краткий [6, с. 39–40]. Органичное продолжение – светлое, умиротворенно-патриархальное стихотворение «Свете тихий», посвященное О. Беляевской. «В сельском храме, простом, убогом» слышно, как «вздох молитвы под сводом реет» [6, с. 41]. «Ангел сходит к земле с приветом», с мольбой обращается к Богу, и ему вторит вся природа. Метафизическое Божественное и физическое Природное соединяются в желании совершенствовать мир.
Первая часть книги заканчивается стихотворением «Майское утро». Оно далеко от романтизма и символизма, это скорее сугубо реалистическая зарисовка:
люди собираются бежать из города, где пыльно, жарко, «скучные мухи», «пахнет дегтем, потом...» [6, с. 43]. Но главное, что в «Майском утре» бодрости и весеннего движения гораздо больше, чем «нытья хриплой шарманки» [6, с. 42], поэтому здесь так много глаголов: «притащили, прикрутили», «повезли», «рванулся вихрь весенний».
Далее - «Частушки», не лишенные юмора и в то же время лирического начала: «Что, зеленая трава, / Не растешь до Покрова? / А и милого слова / Хороши до Покрова» [6, с. 45]. Непростая крестьянская жизнь отражена в другой частушке, пронизанной больше грустью, чем весельем: «Хороша наша трава: / До Петровок погнила. / Уродилась наша рожь: / На посев не соберешь» [6, с. 46]. Фольклорный жанр появляется в сборнике несколько неожиданно, но мотивированно: он соединяет первую часть книги со второй, в целом звучащей более оптимистично.
Однако в следующем произведении, названном «Два Содома» и посвященном М. Волошину, поэтесса вновь обращается к темной стороне бытия . Лирический герой признается, что «порока огненные чаши / Всю жизнь... смело пил до дна» [6, с. 47], но теперь, обращаясь к Богу, просит сжечь и его, и «родной Содом». Сопоставляются два «сна»: история Содома и «древний сон земной гордыни» [6, с. 48], сегодняшняя реальность и «сон иной», не менее грозный. Сон окрашен в тревожные тона, лирический герой трепещет, видя «скорбный Лик» и слыша «тихий голос громче грома»: «Я все простил сынам Содома, / Но вам, познавшим, не прощу» [6, с. 48].
Стихотворение «Светлый конец» - это предсмертная песня деревьев, «братьев-великанов», «творивших таинство жизни», познавших «звездные приметы, думы облаков», а теперь превратившихся в дрова для камина. Огонь у Соловьевой -языческий символ очищающей вольной стихии, на встречу с ним идут с радостью, чтобы «таинство смерти творить»: «Конец наш мы радостно встретим» [6, с. 49]. Деревья к этому готовились долго: «Нас к огненной смерти готовил багрянец зари...» [6, с. 49]. В финале под пеплом рдеет последнее дыхание: «Мгновенья последние тихи и ясны: / Прекрасные в жизни - и в смерти прекрасны» [6, с. 50].
Короткий текст «Несмущенный» посвящен Вяч. Иванову (1866-1949), русскому поэту-символисту, яркому представителю литературы Серебряного века. Несмотря на то, что еще в 1908 году у Иванова произошел разрыв со старшими символистами (он увлекся теорией «мистического анархизма»), Соловьева подчеркивает: «огненный покой» лирического героя - знак напряженности духовного поиска. Этот путь непременно приведет возвышенную душу к «верному уделу». В финале она использует образы, характерные для символистской поэзии: «О, погляди, как смерти белый полог / От алых роз зардел» [6, с. 51].
Старшими символистами (часто именуемых «декадентами») были В. Брюсов, К. Бальмонт. Ф. Сологуб, Д. Мережковский, З. Гиппиус. В сборнике П.С. Соловьевой «Вечер» им посвящено несколько текстов: стихотворение «Пыль веков» - Ф. Сологубу, «Белый цветок» - Д. Мережковскому, «Неразрывно» и «Краткие мысли» - З. Гиппиус. О Бальмонте в книге говорят персонажи. К младшим символистам обращены стихотворения «Несмущенный» (В. Иванову) и «Серый волк» (А. Блоку). Другие адресаты - Н. Минский («Прошло»), А. Герцык («Власть дождя»), С. Городецкий («Майское утро»), О. Беляевская («Свете тихий»), М. Волошин («Два Содома»).
В свою очередь Максимилиан Волошин посвятил П.С. Соловьевой стихотворение «Над горестной землей - пустынной и огромной...», в котором есть такие строки: «Колючий ореол, гудящий в медных сферах, / Слепящий вихрь креста – к закату клонишь ты / И гасишь темный луч в безвыходных пещерах / Вечерней пустоты» [3, с. 67]. Как видим, тут и крест, и закат, и ощущение «вечерней пустоты» – все, что обнаруживается во многих стихотворениях сборника Соловьевой «Вечер».
Стихотворение «Городская весна» посвящено С. Соловьеву – скорее всего, племяннику поэтессы, поэту Сергею Михайловичу Соловьеву (1885–1942), внуку историка С.М. Соловьева (отца Поликсены – «Allegro»), троюродному брату А. Блока и другу А. Белого. С. Соловьев выпустил несколько стихотворных сборников: «Цветы и ладан» (1907), «Crurifragium» (1908), «Цветник царевны» (1913).
В конце книги, в большом стихотворении «Серый волк», вновь звучат фольклорные мотивы. «Двенадцать томительных лет» Серый Волк несет на себе лирического героя и его Царевну «по топким и тайным тропам» [6, с. 53]. Разнообразные художественные средства, использованные в описании этого путешествия (олицетворения, окказионализм жемчужил и другие), навевают атмосферу сказочного волшебства, как на картине Васнецова «Иван Царевич на Сером Волке» (1889): «Мы слушали травные были / И сказки неслыханных птиц. / Вдали, за лесом, светили / Нам взгляды кратких зарниц» [6, с. 54]. Но что будет дальше с Царевичем, Царевной и Серым Волком? Соловьева пишет свое продолжение этой сказочной истории: душа Царевича, «от леса рожденного», горит «вечерним огнем» [6, с. 55], как и весь лесной мир, но Царевна не видит в этом подвига. И Царевич осознает, что им суждены разные пути. Душевное состояние лирического героя в печальный момент расставания резко и ярко подчеркивается пейзажем: «В пожаре весь воздух, и рдеет / Трехгранный полет журавлей [6, с. 55]. Царевич с горечью признает: «Судьба моя, Волк ты мой Серый, / С тобой я останусь вдвоем» [6, с. 55].
В заключительном цикле «Краткие мысли» вновь возникает мотив тоски и одиночества. Он показателен, поскольку истинный поэт, по Соловьевой, должен пройти через страдания, перетерпеть их, лишь тогда душа будет очищена и вознаграждена: «Тогда сберешь ты дикий мед / С цветов и горьких трав разлуки» [6, с. 60].
Таким образом, книга П.С. Соловьевой «Вечер» полна глубоких философских раздумий о нелегком жизненном пути человека, об одиночестве и любви. С одной стороны, душа лирического героя часто охвачена унынием и печалью, с другой – не теряет способности надеяться и верить. Своеобразным жизненным кредо автора можно считать завершающие книгу строки из цикла «Краткие мысли»: «Не называй себя несчастным, / Безгрозный жизни день унылым не зови: / Ты можешь совершить и вечером ненастным / Свой подвиг горестный любви» [6, с. 60].
354 354
Список литературы Особенности поэтики сборника Поликсены Соловьевой «Вечер»
- Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Высш. шк., 1993. 512 c.
- Волошин М.А. «Средоточье всех путей…»: Избранные стихотворения и поэмы. Проза, критика, дневники. М.: Моск. рабочий, 1989. 606 с.
- Волошин М.А. Стихотворения и поэмы. СПб.: Петерб.: Наука, 1995. 704 с.
- Гете И.В. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1985. 704 с.
- Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 2. Стихотворения 1825-1836. М.: Худож. лит., 1974. 686 с.
- Соловьева П.С. (Allegro). Вечер. Стихи. СПб.: Книгоизд-во «Тропинка», 1914.