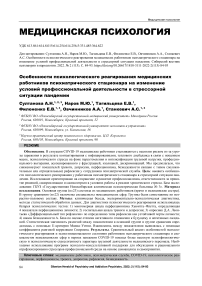Особенности психологического реагирования медицинских работников психиатрического стационара на изменение условий профессиональной деятельности в стрессорной ситуации пандемии
Автор: Султанова Аклима Накиповна, Наров Михаил Юрьевич, Тагильцева Елена Владимировна, Филоненко Екатерина Васильевна, Овчинников Анатолий Александрович, Станкевич Анна Сергеевна
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Медицинская психология
Статья в выпуске: 2 (115), 2022 года.
Бесплатный доступ
Обоснование. В ситуации COVID-19 медицинские работники сталкиваются с высоким риском из-за угрозы заражения в результате контактирования с инфицированными, теплового дисбаланса в связи с ношением масок, психологического стресса на фоне переутомления и интенсификации трудовой нагрузки, профессионального выгорания, ассоциированного с фрустрацией, изоляцией, дискриминацией. Мы предполагаем, что снижение/рост показателей тревоги, депрессии, перфекционизма, безнадежности связано с типом (положительным или отрицательным) рефлексии у сотрудников психиатрической службы. Цель: выявить особенности психологического реагирования у работников психиатрического стационара в стрессорной ситуации пандемии. Исследование ориентировано на сохранение и развитие профессионализма, ответственности за принятие решений, самореализации и самоконтроля в условиях работы в режиме хронического стресса. База исследования: ГБУЗ «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3». Материал исследования. Основная группа (n=23) состояла из медицинских работников (врачи и медицинские сестры). В группу сравнения (n=22) включены специалисты немедицинских сфер. Группы были сопоставимы по возрастно-половому составу. Методы: клиническая беседа, экспериментально-психологическая диагностика, методы статистической обработки данных. Для диагностики психологического реагирования использовалась батарея психологических тестов: 1) многомерная шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта, определяющая 4 показателя перфекционизма личности; 2) госпитальная шкала тревоги и депрессии; 3) опросник Д.А. Леонтьева «Дифференциальный тип рефлексии» по определению типа рефлексии как устойчивой черты личности; 4) шкала безнадежности А. Бека по оценке степени негативного отношения к будущему и негативных ожиданий. Статистическая значимость различий между показателями в основной группе и группе сравнения определялась с помощью U-критерия Манна-Уитни. Взаимосвязь между показателями выявлялась с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Результаты. Сравнительный анализ особенностей психологического реагирования и психоэмоционального состояния работников психиатрического стационара и специалистов немедицинских сфер в период пандемии COVID-19 показал более высокую психофизиологическую и психологическую стрессогенность характера трудовой деятельности медицинского персонала. Необходимо использование программ психолого-консультативной поддержки для обсуждения и рационального отрефлексирования стрессоров профессиональной среды на основе самоанализа и самопринятия.
Медицинские работники, психиатрическая служба, covid-19, психологическое реагирование, перфекционизм, тревога, депрессия, рефлексия, безнадежность
Короткий адрес: https://sciup.org/142236300
IDR: 142236300 | УДК: 613.861:614.8.015:614.254:614.256.5:331.485:364.622 | DOI: 10.26617/1810-3111-2022-2(115)-84-93
Текст научной статьи Особенности психологического реагирования медицинских работников психиатрического стационара на изменение условий профессиональной деятельности в стрессорной ситуации пандемии
Начало 2019 г. совпало с появлением новой коронавирусной инфекции, получившей крайне широкое распространение в 2020 г. и объявленной масштабной общемировой пандемией. Вслед за объявлением нового статуса были введены меры безопасности – режим ЧС и самоизоляции, ограничение свободного передвижения, обязательная вакцинация, перевод большинства сотрудников и учащихся на дистанционный режим, введение и продление режима нерабочих дней. В разных категориях населения появился панический страх возможного заражения опасным вирусом и смертельного исхода от осложнений 2019-nCoV. Ограничение контактов даже с близкими людьми и поездок на общественном транспорте, рекомендации не покидать свой дом, закрытие спортивно-развлекательных центров и другие меры безопасности стали стартом для появления чувства одиночества, бессмысленности и бесперспективности жизни, страха смерти. Фатальные переживания беспомощности и утраты контроля за обстоятельствами своей жизни декомпенсировали психическое состояние людей с ранее установленным психиатрическим диагнозом, личностные психологические проблемы появились даже у части населения, ранее не имевшей нарушений психического здоровья [1].
Все группы населения в разной степени подверглись ковидному стрессу, ритм жизни изменился из-за навязчивого ощущения незащищенности. В этом ракурсе представляет интерес психологическое состояние медицинских работников, на себе испытавших последствия психогенного воздействия профессионального стресса. С одной стороны, фактора разрушительного, с другой ‒ мобилизующего внутренний потенциал и мотивирующего к эффективному продолжению трудовой деятельности. В период локдауна была переструктурирована система оказания психиатрической помощи, специалисты психиатрической сети в пандемийный кризис столкнулись с возросшим объемом профессиональной нагрузки. В сознании людей, оставшихся наедине со своими психологическими проблемами, поселились страхи, неуверенность, паника, тревога. Главная задача психиатров ‒ сохранять выдержку и спокойствие и поддерживать самообладание своих пациентов, научить их навыкам преодоления преград. Медицинские работники более других уязвимы не только в связи с ежедневной угрозой заражения, но и под влиянием сильного психологического стресса, так как многократно сталкиваются с внезапной смертью, физическими и эмоциональными страданиями пациентов [2], что становится причиной расстройств сна, эмоционального напряжения, беспокойства [3].
Стационарам целесообразно иметь резерв коечного фонда, используемый в обычное время для реабилитации и социализации пациентов. Амбулаторным пациентам следует в полном объеме предоставить доступ к медикаментозной и психотерапевтической терапии (технологии телемедицины для минимизации риска инфицирования). Реструктуризация работы по сменному графику обеспечит полноценный отдых и позволит врачам проходить карантин после каждой смены [4].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить особенности психологического реагирования у работников психиатрического стационара в стрессорной ситуации пандемии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Критерий включения в выборку: отсутствие временной нетрудоспособности по болезни не менее 1 месяца на момент исследования. Сроки исследования: февраль-март 2021 г. Из участников (n=45) исследовательской выборки были сформированы две группы: основная (n=23) ‒ медицинские работники; группа сравнения (n=22) ‒ специалисты немедицинских сфер. Группы были сопоставимы по возрастно-половому составу.
Критерий включения в основную группу: постоянная трудовая деятельность в ГБУЗ «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3». Возраст респондентов основной группы варьировал от 27 до 57 лет. Доля (n=18) врачей превышала число (n=5) медсестер. Количество (n=15) женщин-врачей превосходило число (n=8) врачей мужского пола.
Возраст респондентов группы сравнения охватывал больший диапазон ‒ от 22 до 65 лет, чем в основной группе. Распределение по половой принадлежности оказалось идентичным, с преобладанием среди работников немедицинской сферы лиц женского пола (14 женщин и 8 мужчин).
Основные методы: клиническая беседа, экспериментально-психологическая диагностика, методы статистической обработки данных. Для диагностики психологического реагирования использовалась батарея психологических тестов: 1) многомерная шкала перфекционизма Хьюитта– Флетта, определяющая 4 показателя перфекционизма личности [5]; 2) госпитальная шкала тревоги и депрессии; 3) опросник Д.А. Леонтьева «Дифференциальный тип рефлексии» по определению типа рефлексии как устойчивой черты личности [6]; 4) шкала безнадежности А. Бека по оценке степени негативного отношения к будущему и негативных ожиданий.
Статистическая обработка результатов, полученных в ходе исследования, проводилась с использованием стандартных методов расчета средних величин статистической совокупности.
Статистическая значимость различий между показателями респондентов основной группы и группы сравнения определялась с помощью U-критерия Манна-Уитни. Взаимосвязь между показателями выявлялась с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Авторы Многомерной (7-балльной) шкалы перфекционизма (Multidimensional Perfectionism Scale, MPS) обозначают этим понятием стремление быть безупречным и совершенным.
Как видно из таблицы 1, показатель по субшкале «перфекционизм, ориентированный на других» в группе медицинских работников психиатрической больницы оказался статистически значимо (р<0,05) ниже (55,8±13,2 балла ‒ средний уровень развития качества характера) по сравнению с группой работников немедицинских профессий (64,3±11,1 балла ‒ повышенный уровень значений личностной характеристики).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что врачи и медсестры психиатрической больницы не имеют завышенных требований по отношению к окружающим (коллегам, пациентам, близкому окружению), их представления о возможных достижениях окружающих более реали- стичны и непредвзяты, так как исходят из объективного понимания и анализа сложившихся условий и обстоятельств конкретной ситуации. В то время как работники немедицинских учреждений склонны выдвигать по отношению к другим неправомерно завышенные требования, но их гипертрофированные ожидания от окружающих могут быть осуществлены в реальной жизни с низкой вероятностью. Более умеренные и компромиссные предположения о потенциальных возможностях окружающих, характерные для респондентов основной группы, объясняются особенностями их личностно-психологического реагирования на происходящее ‒ они изначально по роду своей профессиональной деятельности должны безоценочно и беспристрастно относиться к проблемам пациентов. Специфика работы с пациентами психиатрического профиля предполагает высокую профессиональную компетентность в выборе базовых стратегий, позволяющих лучше понять актуальные цели и собственные возможности, чтобы предпринять оптимальный выход из драматической ситуации, а не оказаться психологически сломленным под невыносимым прессингом обстоятельств в ситуации стресса.
Т а б л и ц а 1. Сравнительное распределение показателей перфекционизма по Многомерной шкале перфекционизма среди обследованных основной группы и группы сравнения (баллы)
|
Наименование субшкалы |
Основная группа |
Группа сравнения |
Уровень достоверности (р) |
||
|
Среднее значение (M) |
Стандартное отклонение (SD) |
Среднее значение (M) |
Стандартное отклонение (SD) |
||
|
Перфекционизм, ориентированный на других |
55,8 |
13,2 |
64,3 |
11,1 |
0,05 |
|
Перфекционизм, ориентированный на себя |
62,0 |
16,1 |
72,3 |
11,4 |
0,08 |
|
Социально предписанный перфекционизм |
58,6 |
10,3 |
61,4 |
9,9 |
0,49 |
|
Интегральный уровень перфекционизма |
177,2 |
36,7 |
188,1 |
48,0 |
0,14 |
В основной группе работников психиатрического стационара по субшкале «перфекционизм, ориентированный на себя» на уровне тенденции (р=0,08) выявлен количественно меньший показатель (62±16,1 балла), чем в группе сравнения (72,3±11,4 балла). Данные психодиагностического анкетирования свидетельствуют о предрасположенности испытуемых обеих групп предъявлять высокие требования по отношению к себе, чувствовать моральную ответственность за свои поступки, использовать самоконтроль и самоанализ как потенциал активизации личностного роста. Более низкий показатель самооценочного перфекционизма у врачей и медсестер психиатрической больницы априори связан с тем, что специалисты из области психического здоровья, несмот- ря на высокие требования к себе, не только имеют богатый клинический опыт оценки поведенческих расстройств (помимо классической психопатологии) у окружающих, но и более объективно и прагматично оценивают свои слабые и сильные стороны, более спокойно переживают неуспехи, понимают различия между «Я-идеальным» и «Я-реальным» в профессиональной сфере, но готовы совершенствовать способы работы и коммуникативного общения. Тем более, что в силу профессиональной компетенции понимают, как не воплощенные в жизнь перфекционистские «грандиозные планы и глобальные проекты», представляющие собой «прокрустово ложе», могут стать отправной точкой для формирования депрессивных переживаний или суицидальных мыслей.
Среднее значение показателя «социально предписанного перфекционизма» в основной группе медицинских работников на уровне тенденции (р=0,49) оказалось более низким (58,6±10,3 балла), чем в группе работников немедицинских профессий (61,4±9,9 балла). Интерпретируя полученные данные, можно констатировать, что испытуемые обеих групп признают обоснованность запросов окружающих по отношению к ним. Однако респонденты основной группы более лояльны к ожиданиям окружающих, более склонны оказывать поддержку в ситуации стресса, в том числе профессиональную психолого-психотерапевтическую помощь, чем работники немедицинских профессий.
В завершении был проанализирован показатель по субшкале «интегральный уровень перфекционизма». В основной группе работников психиатрического стационара обнаружена тенденция (р=0,14) к более низкому среднему количественному показателю (177,2±36,7 балла) при сопоставлении с группой сравнения (188,1±48,0 балла). Несмотря на незначительные расхождения, зарегистрированные значения отражают вы- сокий уровень интегрального показателя в обеих группах обследованных. Приобщая данные клинической беседы, можно аргументированно считать, что работники психиатрической больницы точнее и конкретнее понимают свои личные недостатки и преимущества, профессиональные возможности и ограничения, способны более адекватно оценивать себя и окружающих, проявляют большую гибкость в достижении целей, не ставят перед собой непосильных задач, не ожидают от окружающих необыкновенных высот в разных сферах функционирования, менее ригидны в непредвиденных обстоятельствах. Тем не менее высокий интегральный показатель перфекционизма в группе работников психиатрического стационара в ряде случаев может определять завышенный уровень притязаний по отношению не только к личной ответственности за происходящее, но и отказывать окружающим в возможности пребывать в роли сторонних наблюдателей.
Далее приводятся результаты, полученные по материалам исследования тревоги и депрессии среди работников психиатрической больницы и специалистов немедицинской сферы (табл. 2).
Т а б л и ц а 2. Сравнительное распределение показателей по Госпитальной шкале тревоги и депрессии среди обследованных основной группы и группы сравнения (баллы)
|
Наименование субшкалы |
Основная группа |
Группа сравнения |
Уровень достоверности (р) |
||
|
Среднее значение (M) |
Стандартное отклонение (SD) |
Среднее значение (M) |
Стандартное отклонение (SD) |
||
|
Тревога |
7,5 |
2,3 |
7,6 |
5,0 |
0,76 |
|
Депрессия |
5,9 |
3,6 |
5,6 |
4,2 |
0,71 |
Согласно результатам исследования по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) не обнаружено статистически значимых различий (р=0,76) при оценке уровня тревоги в основной группе и группе сравнения (7,5±2,3 и 7,6±5,0 балла). Полученные показатели, незначительно превышающие средненормативное (7 баллов) значение, подтверждают субклиническую выраженность тревоги. Повышение личностной тревожности в обеих группах обследованных имеет половозрастную дифференциацию (женский пол, старший возраст). Тенденция к появлению тревожности в виде субклинических проявлений во время пандемии в первую очередь вызвана переживаниями из-за угрозы заражения опасным вирусом и высокой коморбидностью психической дезадаптированности с соматической патологией. Манифестация тревожно-поведенческого реагирования (как правило, астенического или ипохондрического регистра) обусловлена психогенными факторами. К их числу относятся вынужденное изменение образа жизни, ограничение свободы общения и передвижения во время карантина, элементы неконструктивного перфекционизма в связи с событиями, не подчиняющимися собственному контролю, низкая социальная поддержка, выполнение работы в условиях максимальной нагрузки и напряжения. Восстановление поведенческого, когнитивного и эмоционального функционирования возможно на основе адекватной психолого-психотерапевтической поддержки, в том числе на рабочем месте. Психологические тренинги эффективны в снижении тревожной и соматовегетативной симптоматики, в избавлении от физической и астенической слабости, ригидности и эмоциональной лабильности, в повышении концентрации внимания.
Результаты собственного исследования согласуются с работами, в которых приводятся данные о стабилизации уровня тревоги (достижение прежних нормативных показателей) в результате адаптации к длительному пребыванию в напряженной обстановке ограничительного режима в период пандемии [7].
Исследование уровня выраженности депрессии по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) не выявило статистически значимых различий (р=0,71) между обследованными основной группы и группы сравнения. Полученные показатели субъективной оценки депрессивного компонента в эмоционально-психологическом состоянии (5,9±3,6 и 5,6±4,2 балла) в обеих группах соответствуют средненормативным значениям, несмотря на неблагоприятный средовый стресс-фактор. Это подтверждает сохранность и эффективность трудоспособности, стабильность производственного и семейного функционирования, органичную включенность в жизнь социального сообщества.
На следующем этапе работы с использованием психодиагностического опросника Д.А. Леонтьева «Дифференциальный тип рефлексии» выполнено исследование по определению типа рефлексии в качестве устойчивой черты личности и её особенностей в обеих группах исследовательской выборки (табл. 3).
Т а б л и ц а 3. Сравнительное распределение показателей рефлексии по опроснику «Дифференциальный тип рефлексии» среди обследованных основной группы и группы сравнения (баллы)
|
Наименование субшкалы |
Основная группа |
Группа сравнения |
Уровень достоверности (р) |
||
|
Среднее значение (M) |
Стандартное отклонение (SD) |
Среднее значение (M) |
Стандартное отклонение (SD) |
||
|
Системная рефлексия |
34,1 |
7,1 |
36,7 |
6,2 |
0,23 |
|
Интроспекция |
22 |
4,1 |
20,7 |
6,4 |
0,33 |
|
Квазирефлексия |
18,7 |
6,7 |
21,0 |
6,0 |
0,49 |
В основной группе работников психиатрического стационара имела место тенденция (р=0,23) к более низкому среднему количественному показателю системной рефлексии (34,1±7,1 балла) при сопоставлении с группой сравнения (36,7±6,2 балла). Зарегистрированные средние показатели (более 34, но менее 44 баллов) демонстрируют достаточную способность испытуемых обеих групп, с одной стороны, самодистанцироваться в жизненных ситуациях, с другой ‒ оценить свои действия в происходящем с позиции стороннего внутреннего наблюдателя, как бы взглядом других (со стороны). Системная рефлексия, будучи наиболее адаптивным типом рефлексии, позволяет понимать конкретную ситуацию многоаспектно, что является условием продуктивной работы специалистов психиатрического профиля. В работе психиатров рефлексивный анализ направлен на определение истинных причин происходящего, вычленение важного без застревания на малосущественных деталях, четкое разделение профессиональных и личных интересов, объективное понимание своей роли терапевта в процессе восприятия запросов пациента. Т.е. с. пониманием себя связано глубокое понимание, «прочувствование» проблем пациента, его принятие, построение комплаентных отношений на основе эмпатии.
Анализ зафиксированных данных по субшкале интроспекции продемонстрировал в основной группе работников психиатрического стационара тенденцию (р=0,33) к более высокому среднему количественному показателю (22±4,1 балла), чем в группе сравнения (20,7±6,4 балла). Выявленные средние показатели (более 19, но менее 31 балла) отражают умеренную степень сконцентрированности на своем «Я», своем психоэмоциональном состоянии, переживаниях и проблемах. Если не понимать в полной мере себя, не уметь объектив- но оценивать свои личностные способности и недостатки, нельзя построить конструктивные отношения с другими, тем более в системе «врач ‒ пациент», этому способствуют навыки регулятивной рефлексии специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья.
Анализ полученных результатов по субшкале квазирефлексии выявил в основной группе работников психиатрического стационара тенденцию (р=0,49) к более низкому среднему количественному показателю (18,7±6,7 балла), нежели в группе сравнения (21,0±6,0 балла). Авторами опросника «Дифференциальный тип рефлексии» суммарный показатель до 22 баллов интерпретируется как низкий показатель квазирефлексии. Соответственно зарегистрированные в выборке исследования показатели свидетельствуют о низкой выраженности квазирефлексии ‒ способности отвлечься от стрессорной ситуации, вызванной распространением COVID-19, рационально переключить свое внимание и переориентировать пациентов на вид деятельности, повышающей позитивный настрой. Как форма психологической защиты квазирефлексия позволяет дистанцироваться от тягостных мыслей в ситуации ковидного стресса, сознательно сократить объем поступающей из многочисленных источников негативной информации, не фиксироваться на неприятных событиях, а создать в своём сознании модель постковидного будущего, в котором глобальная проблема социальной изоляции всех и каждого будет решена, что позволит избавиться от повышенной тревоги и страхов «здесь и сейчас».
На заключительном этапе работы по шкале безнадежности А. Бека оценивалась степень негативного отношения к будущему и негативных ожиданий в обеих группах исследовательской выборки (табл. 4).
Т а б л и ц а 4. Сравнительное распределение показателей безнадежности по шкале безнадежности Бека среди обследованных основной группы и группы сравнения (баллы)
|
Шкала |
Основная группа |
Группа сравнения |
Уровень достоверности (р) |
||
|
Среднее значение (M) |
Стандартное отклонение (SD) |
Среднее значение (M) |
Стандартное отклонение (SD) |
||
|
Безнадежность |
10,4 |
1,7 |
10,2 |
2,3 |
0,75 |
Шкала безнадежности Бека дополнительно использовалась как психодиагностический инструмент в оценке депрессии. На основании анализа данных по шкале безнадёжности в основной группе (10,4±1,7 балла) и группе сравнения (10,2±2,3 балла) отмечается тенденция (р=0,75) к идентичности значений среднего количественного показателя. Сценарий предполагаемого будущего у всех респондентов не имел мрачного финала, большинство опрошенных понимали, что связанные с пандемией трудности носят временный характер. Несмотря на неожиданную смерть близких, тяжёлое чувство утраты и высокую вероятность в любой момент заболеть, участники исследования ожидали по окончании пандемии хороших перемен в дальнейшей жизни, выражали веру (пусть в отдаленной перспективе) удовлетворить свои потребности и осуществить желания, понимали, что в будущем предстоят не только неудачи, но и успехи в профессиональной сфере и частной жизни. Никто из них не был охвачен безнадежным отчаянием и бесконечными пессимистическими переживаниями о последствиях пандемии. По шкале безнадежности у респондентов отсутствовал негативный образ «Я» в настоящем, прошлом и будущем времени. Наблюдаемые во время клинического интервью пессимистические высказывания расценивались нами как психологическое реагирование в рамках нормы на постигшие их трагические известия.
ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с результатами сравнительного анализа значений субшкал перфекционизма (ориентированный на себя, ориентированный на других, социально предписанный, интегральный уровень) все показатели в группе медицинских работников психиатрической больницы были ниже, чем в группе работников немедицинских профессий. Причем по субшкале перфекционизма, ориентированного на себя, – на уровне статистической значимости, по трем другим субшкалам – на уровне тенденции. Врачи-психиатры всегда подвергаются большему риску из-за высокого профессионального стресса, а тем более в связи с резким увеличением нагрузки на службы охраны психического здоровья в период распространения COVID. Оптимальный уровень перфекционизма в группе респондентов психиатрической больницы ассоциирован с низким уровнем эмоционального выгорания.
Немецкими авторами аргументированно обсуждаются следующие закономерности: 1) перфекционизм является предиктором переживания страха из-за угрозы заражения COVID-19 и повторяющегося негативного мышления (не контролируемое беспокойство о будущем или прошлом); 2) страх перед COVID-19 и повторяющиеся негативные мысли прогнозируют психологический стресс во время пандемии и опосредуют связь между перфекционизмом и психологическим дистрессом [8].
В обеих группах исследования по шкале HADS получены средненормативные показатели, характерные для субклинической выраженности тревоги, без статистически значимых различий. На этом основании можно говорить о временных тревожных состояниях у здоровых людей на фоне неопределенности, неуверенности и непредсказуемости в непредвиденных обстоятельствах пандемии. Нарастанию тревожности противодействует поддержание уверенности, в том числе средствами СМИ, на обновление ситуации ‒ спад заболеваемости, возвращение к стабильности политики укрепления общественного здоровья.
Онлайн-опрос в Германии показал рост беспокойства из-за риска вирусного заражения, особенно среди лиц с повышенной тревогой по поводу здоровья. Cyberchondria Pandemic положительно коррелировала с текущей вирусной тревогой. Осмысленное восприятие информации о пандемии отрицательно коррелировало с текущим беспокойством. Реалистичная информация о пандемии и адаптивная регуляция эмоций представляют собой буферные факторы против усиления тревожности во время вирусной пандемии [9].
Исследование уровня выраженности депрессии по HADS показало отсутствие выраженных проявлений депрессии. В обеих группах выявлены средненормативные значения без статистически значимых различий по данным субъективной оценки депрессивных переживаний в структуре эмоционально-психологического состояния. Ни один из респондентов не сообщил о снижении желания работать в новом формате, предусматривающем корректное выполнение санитарногигиенических и противоэпидемических мер во время угрозы распространения заболевания, о намерении уволиться по собственной инициативе, об утрате интереса к любой сфере деятельности, в том числе профессиональной.
По опроснику «Дифференциальный тип рефлексии» в основной группе работников психиатрического стационара при сопоставлении с группой сравнения прослеживалась тенденция к двум более низким средним количественным показателям (системной рефлексии и квазирефлексии), но к более высокому показателю по субшкале интроспекции. Реорганизация психиатрической помощи во время пандемии (ограничительные меры всеобщего физического дистанцирования) потребовала от медицинских работников быстрой адаптации к новым условиям и перехода от стандартных и привычных форм работы к инновационным стратегиям. Немаловажную роль в этом имела логическая перспективная рефлексия – большинство обследованных, объективно анализируя свои потенциальные возможности ‒ без преумаления или преувеличения, осознанно делали выбор по величине профессиональной активности и ответственности в ситуации «здесь и сейчас» за жизнь и здоровье пациентов психиатрического стационара и членов их семей.
Оценка интенсивности выражаемого негативного отношения к будущему и негативных ожиданий по шкале безнадежности А. Бека продемонстрировала тенденцию к совпадению значений среднего количественного показателя в обеих группах на уровне нормативного реагирования. Успешной стратегией преодоления негативного воздействия пандемии оказалось отрицание недостоверной, а иногда и откровенной дезинформации, усиливающей панический страх близкой смерти от опасного заболевания. Зрелое защитное функционирование служило преградой безнадежного мироощущения, тормозило развитие патологических форм реагирования. Стратегии эмоционального преодоления чувства безнадежности заряжали оптимистическим настроем на благополучный исход, саморегуляция поведения помогала противостоять психологическому стрессу и уверенно смотреть в будущее.
По материалам статистического анализа между изучаемыми в исследовании показателями обнаружены средние и сильные взаимосвязи, в частности сильная прямая связь (R=0,74; p<0,005) между отсутствием клинических форм депрессии и низким уровнем безнадежности. Большинство респондентов не заостряли внимание на негативных событиях, а осознанно переключались на позитивные моменты. Наблюдая и разделяя альтруистические действия коллег, становились «психологическими опекунами» своих пациентов, ориентируя их на контроль и управляемость своей жизнью и помогая отказаться от роли наблюдателя-пессимиста, пассивно реагирующего на ситуацию пандемии.
Связь между выраженной депрессивной симптоматикой и ощущением безнадежности из-за предполагаемой невозможности повлиять на происходящее и изменить ход событий многократно описана в зарубежных исследованиях. Так в метаанализе 45-летнего архива публикаций изучались возможности прогнозирования суицидальных мыслей или попыток с использованием любой переменной депрессии или безнадежности [10]. Оценка вклада тревожных установок и безнадежности в формирование тревоги и депрессии установила их взаимосвязь. Обучающие психологические вмешательства снижают проблему интернализации, могут изменять выраженность симптомов, что объясняется взаимосвязью дезадаптив-ных когниций (безнадежность) с интернализацией дистресса [11].
В выборке обследованных выявлена прямая связь средней силы (R=0,56; p<0,05) между отсутствием депрессивной симптоматики и среднестатистическим показателем интроспекции, понимаемой как способность обоснованно анализировать актуальное состояние, чувства в переживания в контексте происходящего. Как известно, чем выше уровень рефлексивности индивида, тем выше вероятность переживания им депрессивных состояний и выше уровень самокритики и самоанализа. Однако сверхизбыточный анализ жизни и настойчивое обращение к неблагополучным событиям прошлого неизбежно приводит к заострению на негативных событиях и неудачах, к их повторному переживанию. Большинство респондентов считали, что по окончании пандемии их активность в том числе будет определяться конструктивным опытом пережитого, поэтому старались не зацикливаться на травматических переживаниях, чтобы противостоять бесплодным размышлениям о своей неуспешности, неэффективности и утраченном счастье. В ситуации стресса эта стратегия отношения к собственной деятельности не только способствует повышению комфорта, но и снижает риск серьезных психологических проблем в будущем. Вместе с тем работники психиатрического стационара были ориентированы на максимальное выявление лиц с ухудшением психического здоровье, связанным с пандемией, и оказание психолого-психотерапевтической помощи, рекомендуя абстрагироваться от потока негативной информации, обрести спокойствие в простых удовольствиях настоящего момента.
Согласно результатам собственного исследования установлена прямая связь средней силы (R=0,62; p<0,003) между интроспекцией и степенью выраженности тревоги. Понимание данной связи заключается в том, что нарастание уровня интроспекции ассоциировано с повышением уровня тревоги и наоборот.
Вызванное как самой пандемией, так и профилактическими мерами (карантин, социальная изоляция) нарастание тревожного восприятия и эмоционального дефицита стремительно достигает уровня клинической тревоги в уязвимых группах населения (пациенты с длительным течением заболевания, пожилого возраста, женского пола и пр.). В группе обследованных работников психиатрического стационара для предотвращения разрушительных эмоциональных последствий пандемии особая роль в психолого-поведенческом воздействии отводилась стратегиям эмоциональной поддержки (регулирование эмоций): научения методам объективной оценки событий, отказа от катастрофизации проблем.
Обладая высокой психиатрической компетенцией, респонденты основной группы характеризовались низкой склонностью излишне скрупулезно анализировать «Я-состояние» и чувства других, искать причины начала пандемии, рефлексировать по поводу обоснованности или бессмысленности локдауна, соответственно в меньшей степени они испытывали тревожные переживания (зарегистрировано незначительное превышение показателей нормы).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования выявлено, что показатели перфекционизма по 4 субшкалам и показатель тревоги (субклинический уровень) у работников психиатрической больницы имеют более низкие значения, чем у специалистов немедицинской сферы. Выраженность депрессии в обеих группах обследованных соответствовала средненормативным значениям, без статистически значимых различий. Для респондентов обеих групп характерно также и сходство значений среднего количественного показателя по шкале безнадёжности, расцениваемого в рамках нормы.
Пандемия COVID-19 изменила формат услуг в сфере охраны психического здоровья и определила нацеленность на совершенствование амбулаторных служб. Так как очные обращения за психиатрической помощью сократились повсеместно, кроме психологического консультирования по телефону необходимо внедрение технологий телемедицины в соответствии с клиническими протоколами, программ специальной профессиональной подготовки, расширение доступа к новым услугам. По мере снятия ковидных ограничений к прежнему уровню возвращается обращаемость за оказанием стационарной психиатрической помощи. Поэтому необходимы тренинги по психологической поддержке специалистов психиатрического профиля, испытавших на себе двойное бремя пандемии ‒ ответственность не только за здоровье свое и близких, но и восстановление душевного равновесия пациентов.
Список литературы Особенности психологического реагирования медицинских работников психиатрического стационара на изменение условий профессиональной деятельности в стрессорной ситуации пандемии
- Moreno C, Wykes T, Galderisi S, Nordentoft M, Crossley N, Jones N, Cannon M, Correll CU, Byrne L, Carr S, Chen EYH, Gorwood P, Johnson S, Kärk-käinen H, Krystal JH, Lee J, Lieberman J, López-Jaramillo C, Männikkö M, Phillips MR, Uchida H, Vieta E, Vita A, Arango C. How mental health care should change as a consequence of the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry. 2020 Sep;7(9):813-824. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30307-2. Epub 2020 Jul 16. Erratum in: Lancet Psychiatry. 2021 Jul;8(7):e16. PMID: 32682460; PMCID: PMC7365642.
- Du J, Dong L, Wang T, Yuan C, Fu R, Zhang L, Liu B, Zhang M, Yin Y, Qin J, Bouey J, Zhao M, Li X. Psychological symptoms among frontline healthcare workers during COVID-19 outbreak in Wuhan. Gen Hosp Psychiatry. 2020 Nov-Dec;67:144-145. doi: 10.1016/j.genhosppsych.2020.03.011. Epub 2020 Apr 3. PMID: 32381270; PMCID: PMC7194721.
- Ho CS, Chee CY, Ho RC. Mental Health Strategies to Combat the Psychological Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Beyond Paranoia and Panic. Ann Acad Med Singap. 2020 Mar 16;49(3):155-160. PMID: 32200399.
- Цыганков Б.Д., Иванова Г.Р., Шелег Д.А., Савенкова В.И. Организация психиатрической помощи и психические нарушения у жителей стран, находящихся в условиях пандемии COVID-19 2020 г. (обзор литературы). Вестник РАМН. 2020. Т. 75, № 4. С. 331-339. Tsygankov BD, Ivanova GR, Sheleg DA, Savenkova VI. Organiza-tion of psychiatric care and mental disorders in res-idents of countries affected by the 2020 COVID-19 pandemic (literature review). Bulletin of RAMS. 2020;75(4):331-339. doi: 10.15690/vramn1382 (in Russian).
- Hewitt PL, Flett GL. Perfectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment, and association with psychopathology. J Pers Soc Psychol. 1991 Mar;60(3):456-70. doi: 10.1037//0022-3514.60.3.456. PMID: 2027080.
- Леонтьев Д.А., Лаптева Е.М., Осин Е.Н., Салихова А.Ж. Разработка методики дифференциальной диагностики рефлексивности. Рефлексивные процессы и управление: Сб. материалов VII Международного симпозиума / под ред. В.Е. Лепского. М. : Изд-во Когито-Центр, 2009. С. 145-150. Leon-tiev DA, Lapteva EM, Osin EN, Salikhova AZh. De-velopment of methods for differential diagnostics of reflexivity. Reflexive processes and management: Proceedings of the VII International Symposium / V.E. Lepsky, ed. Moscow: Kogito-Centre Publishing House, 2009. P. 145-150 (in Russian).
- Spagnoli P, Buono C, Kovalchuk LS, Cordasco G, Esposito A. Perfectionism and Burnout During the COVID-19 Crisis: A Two-Wave Cross-Lagged Study. Front Psychol. 2021 Feb 1;11:631994. doi: 10.3389/fpsyg.2020.631994. PMID: 33597905; PMCID: PMC7882691.
- Pereira AT, Cabaços C, Araújo A, Amaral AP, Car-valho F, Macedo A. COVID-19 psychological im-pact: The role of perfectionism. Pers Individ Dif. 2022 Jan;184:111160. doi: 10.1016/j.paid.2021.111160. Epub 2021 Jul 26. PMID: 34642518; PMCID: PMC8496947.
- Jungmann SM, Witthöft M. Health anxiety, cyber-chondria, and coping in the current COVID-19 pandemic: Which factors are related to coronavirus anxiety? J Anxiety Disord. 2020 Jun;73:102239. doi: 10.1016/j.janxdis.2020.102239. Epub 2020 May 20. PMID: 32502806; PMCID: PMC7239023.
- Ribeiro JD, Huang X, Fox KR, Franklin JC. Depression and hopelessness as risk factors for suicide ideation, attempts and death: meta-analysis of longitudinal studies. Br J Psychiatry. 2018 May;212(5):279-286. doi: 10.1192/bjp.2018.27. Epub 2018 Mar 28. PMID: 29587888.
- Mullarkey MC, Schleider JL. Contributions of fixed mindsets and hopelessness to anxiety and de-pressive symptoms: A commonality analysis ap-proach. J Affect Disord. 2020 Jan 15;261:245-252. doi: 10.1016/j.jad.2019.10.023. Epub 2019 Oct 16. PMID: 31669923.