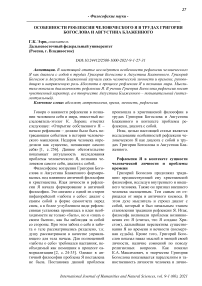Особенности рефлексии человеческого я в трудах Григория Богослова и Августина Блаженного
Автор: Эзри Г.К.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 9-1 (60), 2021 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье исследуются особенности рефлексии человеческого Я как диалога с собой в трудах Григория Богослова и Августина Блаженного. Григорий Богослов и Августин Блаженный изучили связь человеческой личности и времени, руководящую и направленную роль Абсолюта в процессе рефлексии Я и познания мира. Мыслители показали диалогичность рефлексии Я. В учении Григория Богослова рефлексия носит чувственный характер, а в творчестве Августина Блаженного - познавательный (интеллектуальный).
Абсолют, антропология, время, личность, рефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/170189264
IDR: 170189264 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-9-1-27-31
Текст научной статьи Особенности рефлексии человеческого я в трудах Григория Богослова и Августина Блаженного
Говоря о важности рефлексии в познании человеком себя и мира, известный исследователь-этолог К. Лоренц отметил следующее: «Открытие собственного Я – начало рефлексии – должно было быть потрясающим событием в истории человеческого мышления. Недаром человека определяли как существо, познающее самого себя» [1, с. 256]. Данное обстоятельство показывает актуальность исследования проблемы человеческого Я, познания человеком самого себя, диалога с собой.
Философские воззрения Григория Богослова и Августина Блаженного формировались под влиянием античной философии и христианства. Идея личности и рефлексии Я начала формирование в античной философии. Это связано с одной из сторон пифагорейской «заботы о себе»: диалог с самим собой в форме самоотчета перед сном, а в более углубленном виде рефлексивная установка проявилась в идеи необходимости не только «быть», но и «знать о своем бытии», как бы наблюдая за собой со стороны. При этом забота о себе и забота о теле рассматривались разделено, т.к. душу рассматривали в качестве управляющего для тела начала. Для полноценной «заботы о себе» требовался наставник, необходимый как помощник в процессе самореализации [2, с. 24-35]. Однако в античной философии проблема Я поставлена не была. Постановка данной проблемы произошла в христианской философии в трудах Григория Богослова и Августина Блаженного в контексте проблемы рефлексии, диалога с собой.
Итак, целью настоящей статьи является исследование особенностей рефлексии человеческого Я как диалога с собой в трудах Григория Богослова и Августина Блаженного.
Рефлексия Я в контексте сущности человеческой личности и проблемы времени
Григорий Богослов продолжил традицию предшествующей ему христианской философии, исследуя внутреннего и внешнего человека. Также он признал внешнего человека малоценным. Тем самым он отрицался от мира и античного космоса. В этом духе мыслитель и строил диалог с собой, который и был начальным этапом становлении традиции рефлексии Я. Итак, философа волновали проблемы возникновения его Я (считал, что Я создано Христом), дальнейшая перспектива существования Я во времени и вечности (посмертная судьба). Кроме того, Григорий Богослов показал накал мыслей и эмоций своей личности, наличие сомнений по поводу религиозных вопросов. Как показал К.А. Максимович, в творчестве Григория Богослова показывается параллелизм и таинственность личности человека и лично- стью Божества, догматическая рефлексия Святой Троицы и психологический анализ человеческой личности. Такая рефлексия показала ценность человеческой личности [3, с. 7-11].
В творчестве св. Григория Богослова можно обнаружить аллюзии на диалектические идеи Гераклита. «Кто я был?.. Кто я теперь? И чем я буду? Ни я не знаю этого, ни тот, кто обильнее меня мудростью... Я существую. Скажи: что это значит? Иная часть меня самого уже прошла, иное я теперь, а иным я буду, если только буду. Я не что-либо непременное, но ток мутной реки, который непрестанно притекает и ни на минуту не стоит на месте. Чем из этого назовешь меня? Что наиболее, по твоему, составляет мое «я»? Объясни мне это, но смотри, чтобы теперь этот самый «я», который стою перед тобою, не ушел от тебя. Никогда не перейдешь в другой раз по тому же течению реки, по которому переходил ты прежде. Никогда не увидишь человека таким же, каким ты его видел прежде» [4]. То есть мыслитель утверждал динамический характер Я, но прямо о времени не говорил.
Таким образом, антропологический дискурс Григория Богослова сочетает в себе онтологизм и антропологизм, при этом рефлексируется Я как часть внутреннего человека, т.е. мыслителя не интересуется мирской статус человеческой личности, а лишь бытие личности, Я во времени и вечности.
Августин Блаженный тоже утверждал динамический характер человеческого Я, но, в отличие от Григория Богослова, употреблял термин «время». «Одним Бог заповедал одно, другим – другое, в соответствии с условиями времени (здесь и далее в цитатах курсив наш), но и те и другие служили одной и той же правде: так, доспехи подходят тому же самому человеку, одни для одной части тела, другие для другой; в течение того ж самого дня одним и тем же делом сейчас можно заниматься, а через час уже нельзя; в той же самой усадьбе в одном углу разрешено н приказано делать то, что в другом справедливо запрещено и подлежит наказанию. Значит, правда бывает разной и меняется? Нет, но время, которым она управляет, протекает разно: это ведь время» [5, с. 73-74]. То есть динамичность у Аврелия Августина проявляется в различных возможностях реализации Я в связи с изменчивым характером времени.
Как и Григорий Богослова, Августин Блаженный показывал проявление своих эмоций. «Когда я увидел, что духовными детьми Твоими, которых Ты возродил благодатью От Матери Церкви, создание человека по образу Твоему не понимается так, будто Ты ограничил себя обликом человеческого тела (хотя я еще не подозревал, даже отдаленно, даже гадательно, что такое духовная субстанция), то я и покраснел от стыда и обрадовался , что столько лет лаял не на Православную Церковь, а на выдумки плотского воображения » [5, c. 160-161]. Также в данном отрывке можно видеть и субстанциальный дискурс Августина Блаженного.
Итак, антропологическое учение Августина Блаженного и Григория Богослова обладают чертами сходства: в обоих случаях Я рефлексируется как часть внутреннего человека, как изменяемая часть усии или субстанции. Однако есть одно важное различие: у Григория Богослова Я находится в становлении и, соответственно, изменение – сущностная черта Я, а у Августина Блаженного Я пребывает во времени и именно от времени зависит различие проявлений Я (меняется способ реализации божественной правды). Отсюда Я Григория Богослова «онтологичнее» Я Августина Блаженного, т.к. его свойства не зависят от времени и его изменения. Но, при этом, у Августина Блаженного меньше абстракции в представлении динамика Я, которая коррелирует с событиями внешнего мира через время, а не через бытие, онтологию. Данное различие определено следующим обстоятельством: в учении Григория Богослова Богом создано Я («Но и сам я создан рукою Христа» [цит. по 3, с. 8]), а в философии Августина Блаженного сотворена субстанция («Я был уверен, что Ты пребываешь вечно, но вечность эта была для меня «загадкой», «отражением в зеркале». Ушли все сомнения в Твоей неизменной субстанции; в том, что от нее всякая субстанция; не больше знать о Тебе, а уверенно жить в Тебе хотел я» [5, c. 233]).
Познавательный и чувственный характер рефлексии Я
Августин Блаженный по поводу своей «ошибки» в рефлексии природы Бога-субстанции писал: «Поэтому и зло мыслил я, как такую же субстанцию, представленную темнотой и бесформенной величиной» [5, c. 145]. То есть рефлексия носила исключительно интеллектуальный характер, происходила благодаря мышлению. Также мыслитель описывал характер такой рефлексии. «Неужели всем, у кого внешние чувства здоровы, не видна эта красота? почему же не всем говорит она об одном и том же? Животные, и крохотные и огромные, видят ее, но не могут ее спросить: над чувствами – вестниками не поставлено у них судьи – обсуждающего разума. Люди же могут спросить, чтобы «невидимое Божие через творения было понятно и узрено. Привязавшись, однако, к миру созданному, они подчиняются ему, а подчинившись, уже не могут рассуждать. Мир же созданный отвечает на вопросы только рассуждающим: он не изменяет своего голоса, т. е. своей красоты, и не является в разном облике тому, кто только его видит, и тому, кто видит и спрашивает; являясь, однако, в одинаковом виде обоим, он нем перед одним и говорит другому; вернее, он говорит всем, но этот голос внешнего мира понимают только те, кто, услышав его, сравнивают его с истиной, живущей в них» [5, c. 322]. Итак, рефлексия носила характер диалога, происходившего в разуме.
Исследователь И.В. Алфеев подчеркнул, что Григорий Богослов, как и его предшественники по христианской философии (Каппадокийцы), рассматривал античную философию как поиск истины только с помощью разума. Это, по мнению византийского мыслителя, неверный путь. Рациональному поиску истины он противопоставил религиозный путь («открове- ние» Бога, Абсолюта). В таком случае Совершенное существо открывает себя человеку, руководит человеком в поиске истины. Это с одной стороны. С другой же стороны, Григорий Богослов не отрицал важности интеллекта, способности человека к разумному мышлению. Ведь это, по его мнению, роднит человека с Божественным Словом (Абсолютом). Но образованность нужна, чтобы служить возрастанию в вере, познавательная деятельность лишь начало богопознания. Каппадокийцы способствовали тому, чтобы все научное и интеллектуальное богатство, унаследованное от античной культуры, было поставлено на службу христианству. Они выбирали, что могло послужить духовному росту, вере в христианского Бога, и заимствовали это в христианскую философию из античной [6, c. 130-131, 138, 147]. Более того, богословская поэзия Григория Богослова отличалась рефлексией и спокойной рассудительностью [7, c. 177].
Характеризуя свое отношение к уму и учености, Григорий Богослов отметил следующее: «Всякий, имеющий ум, признает ученость первым для нас благом. И не только эту благороднейшую и нашу (ученость), которая, ставя ни во что изысканность и пышность в слове, имеет (своим предметом) одно спасение и красоту умосозерцаемого, но и ученость внешнюю, которой многие христиане, по невежеству, гнушаются как ненадежной, опасной и удаляющей от Бога... (В науках) мы восприняли исследовательскую и умозрительную (сторону), но отвергли все то, что ведет к демонам, к заблуждению и в бездну погибели; мы извлекли из них полезное для благочестия, через худшее научившись лучшему и переделав их немощь в твердость нашего учения» [цит. по 6, с. 130-131]. В данном отрывке понятия «разум», «ум», «ученость», «умосозерца-ния» используются в контексте любознательности, познавательного интереса, но никак не познавательной рефлексии, ученость интересует Григория Богослова только в контексте веры.
Таким образом, по мнению Григория Богослова, познавательно-рефлексивный, разумно-интеллектуальный контекст не способен сам по себе открыть истинных знаний о Боге, человеке и мире в полной мере. Кроме того, рефлексивный и рассудочный контексты в творчестве Григория Богослова разительно отличаются.
Итак, антропология Григория Богослова и Августина Блаженного различается характером рефлексии Я. Для Григория Богослова рефлексия не носит познавательного характера (в его творчестве рефлексия – это диалог с собой), возможно говорить о разумном познании Бога, мира, человека, но не собственного Я. Аврелий Августин утверждал обратное: личный разумный опыт достоверен и познание возможно только через него, включая познание Я человека ( познавательная рефлексия Я).
***
Итак, можно сделать следующие выводы.
Во-вторых, Григорий Богослов и Августин Блаженный рассматривали человеческую личность в контексте времени и изменения. Григория Богослова интересова- ла проблема онтологической динамики (становления) Я, а Августина Блаженного – вопрос изменчивости в реализации Я в зависимости от (исторического) времени.
Во-вторых, для обоих мыслителей личность представлялась единством Я, разумного и эмоционально-чувственного компонентов: в их творчестве Я рефлексиру-ется, разум помогает рефлексии и познанию миру, эмоции – естественное проявление человечности, чувства – вера и убежденность в существовании Совершенного существа, Бога. Рефлексией, познанием руководит Абсолют.
В-третьих, рефлексия Я в трудах Григория Богослова и Августина Блаженного является диалогом с собой, возможно – еще и с Богом, Абсолютом. Но отличается характер рефлексии Я. У Григория Богослова в процессе рефлексии велико значение чувственного компонента личности, а разум лишь оказывает содействие, а в трудах Августина Блаженного рефлексия Я представляет собой рассудочный диалог с собой, а эмоции и чувства выступают как предмет рефлексии, а не ее активные участники.
Список литературы Особенности рефлексии человеческого я в трудах Григория Богослова и Августина Блаженного
- Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. - М., 1998. - 393 с.
- Пичугина В.К. Педагогика "заботы о себе" Пифагора и Пифагорейцев // Научный диалог. - 2013. - № 8 (20): Педагогика. - С. 24-35.
- Максимович К.А. Личность и "космос" в поэзии Григория Богослова // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. - 2009. - №3 (27). - С. 7-12.
- Керн К. Св. Григорий Богослов // Антропология свт. Григория Паламы. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/antropologija-svjatogo-grigorija-palamy/1_3_9 (дата обращения 05.09.2020).
- Августин Аврелий Бл. Исповедь. - М., 2005. - 544 c.
- Алфеев И.В. Жизнь и учение святителя Григория Богослова. - М., 2007. 585 c.
- Красноречие святого Григория Низианзина // Святитель Григорий Богослов. Сборник статей. - М., 2011. - 219 с.