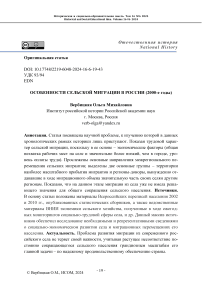Особенности сельской миграции в России (2000-е годы)
Автор: Вербицкая О.М.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 6 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена научной проблеме, к изучению которой в данных хронологических рамках историки лишь приступают. Показан трудовой характер сельской миграции, поскольку в ее основе - экономические факторы (общая нехватка рабочих мест на селе и значительно более низкий, чем в городе, уровень оплаты труда). Прослежены основные направления межрегионального перемещения сельских мигрантов; выделены две основные группы - территории наиболее масштабного прибытия мигрантов и регионы-доноры, вынужденно отдававшие в ходе миграционного обмена значительную часть своих селян другим регионам. Показано, что на данном этапе миграция из села уже не имела решающего значения для общего сокращения сельского населения. Источники. В основу статьи положены материалы Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., опубликованных статистических сборников, а также ведомственные материалы ВНИИ экономики сельского хозяйства, полученные в ходе ежегодных мониторингов социально-трудовой сферы села, и др. Данный массив источников обеспечил исследование необходимыми и репрезентативными сведениями о социально-экономическом развитии села и миграционных перемещениях его населения.
Сельское население, переписи населения, безработица, миграция, мониторинги села, территории-реципиенты и территории-доноры, миграционные потоки, естественный прирост и убыль населения
Короткий адрес: https://sciup.org/149147279
IDR: 149147279 | УДК: 93/94 | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-6-19-43
Текст научной статьи Особенности сельской миграции в России (2000-е годы)
Введение. Во всем мире наступление индустриальной эпохи сопровождалось массовым переселением из сельской местности в города, где быстро растущим промышленным предприятиям требовалась дополнительная рабочая сила. Многих сельских жителей к переезду подталкивали, прежде всего, экономические причины: они уезжали в город, чтобы найти хорошо оплачиваемую работу и улучшить свою жизнь. Миграционный отток из села в города существенно ускорил развитие урбанизационных процессов в СССР, чему способствовало и проведение индустриализации. При этом масштабные миграции в город обрекали население села на постоянную убыль, что с конца ХIХ в. становится важнейшей чертой исторического развития России. Непрерывное сокращение общей численности жителей села документально подтверждается данными демографической статистики. Начиная с Первой всеобщей переписи населения Российской империи (1897 г.) и вплоть до последней советской переписи (1989 г.), то есть фактически на протяжении 100 лет, в стране стабильно фиксировалось неуклонное уменьшение сельского населения. Только за вторую половину ХХ в., с 1959 по 2002 г., она уменьшилась по России с 56,1 млн до 38,7 млн, на 17,4 млн человек. Существенно снизилась и его доля в общем составе жителей России: с 52% до 27%, что отражало не только рост общего уровня урбанизации (на 25%), но еще и дальнейшее распространение городского образа жизни. Соответственно усилилась и концентрация населения, живущего в городах: с 61,1 млн (1959 г.) до 106,4 млн (2002 г.), т.е. с 52% до 73,3%. Иными словами, благодаря активным миграционным и урбанизационным процессам Россия из аграрной страны, какой она входила в ХХ век, довольно быстро превратилась в современную высокоразвитую индустриальную державу, с ощутимым преобладанием городских жителей. К 2002 г. их доля практически в половине субъектов Российской Федерации уже насчитывала 70% и даже выше [9, с. 10-34; 7].
В постсоветский период основной причиной количественной убыли сельского населения выступал экономический фактор – тяжелейшие последствия неудачных реформ 1990-х годов. По сути, внедрение рыночных отношений в российских селах свелось преимущественно к разрушению колхозно-совхозного строя, ликвидации государственной собственности на землю, внедрению элементов частной собственности, а также к многочисленным увольнениям работников из сельхозпредприятий и стремительному росту безработицы. Крайне негативным итогом таких преобразований стало сокрушительное падение объемов аграрного производства, которое за время реформ снизилось практически наполовину. Это означало, что в 1990-е годы село провалило решение своей главной задачи – продовольственной безопасности страны. Бесспорно, большие проблемы были и в городе, однако на селе уровень безработицы был заметно выше: в середине 1990-х годов он балансировал на уровне 10-11% против 7% в городе. Примерно таким он оставался и в начале 2000-х годов [2, с. 70].
Неудачная аграрная реформа предельно обострила проблему занятости на селе, особенно трагичный оборот принимала безработица в сельской глубинке, где из-за экономического краха или рыночного расформирования свою деятельность прекращало единственное там предприятие. Это означало, что в данной местности работы больше нет, и, чтобы выжить, необходимо уезжать, предпочтительно в город. Решать проблему безработицы приходилось самому сельскому сообществу, поскольку государство от проблемы трудоустройства устранилось, понадеявшись на рыночную стихию, которая «сама все отрегулирует». Единственным способом выживания для безработных села стало их личное подсобное хозяйство, где ценой огромных трудовых затрат они выращивали картофель, овощи, а некоторые семьи даже разводили скот и птицу.
К началу 2000-х годов российское село оставалось еще крайне бедным, а все имевшиеся ранее отличия в уровне городской и сельской жизни за годы неудачных реформ еще больше обострились. Более того, бедность на селе снижалась значительно медленнее, в частности, в 2004 г. почти половина его жителей находилась за порогом бедности, а в городе – всего 30%. На селе выше была и доля беднейшего населения (15,4%), общие доходы которого более чем в 2 раза не дотягивали до установленного в стране прожиточного минимума, а в городе таковых было 5,4%, то есть в 3 раза меньше. И хотя доля сельских жителей в общем населении России составляла всего 26,9%, по имеющимся данным, в 2000-е годы именно в селах проживало 42% общего числа бедных россиян [ 9, с. 10-34; 7].
Своими минимальными доходами на селе выделялись работники, занятые непосредственно в сельском, лесном или охотничьем хозяйстве, где общий уровень зарплат не достигал и половины от среднего показателя в России (в 2008– 2009 гг.). Следовательно, значительное преобладание числа селян, занятых в отраслях с минимальной оплатой труда, не обеспечивавшей им даже прожиточного минимума, при общей неразвитости институтов социальной защиты на селе убедительно подтверждало их массовую бедность, особенно по сравнению с городом [ 27, с. 171; 3, с. 28-29].
В наступившем ХХI в. экономические проблемы не исчезли: у большинства аграриев зарплаты и пенсии стариков по-прежнему оставались крайне низкими; к тому же еще не были устранены длительные задержки с их выплатой. В крайне запущенном состоянии находилась и социальная инфраструктура, поэтому большинству селян практически все еще были недоступны образовательные, медицинские, культурные и прочие виды услуг. Следует добавить к этому еще возросшую за годы реформ общую изношенность жилого фонда на селе, низкую степень благоустройства сельских поселений (плохую освещенность улиц, низкое качество сельских дорог, транспортного сообщения даже с расположенными по соседству селами) и т.д.
В 1990-е годы демонтаж советских коллективных хозяйств властью был проведен в целом стихийно и непрофессионально, в итоге аграрная реформа привела к полному разбалансированию внутреннего рынка, что до крайности ухудшило условия жизни на селе. Закрепившаяся в сельской местности безработица и массовая бедность тяжело отражались на демографическом статусе его жителей. Все это не только не способствовало созданию новых семей и рождению детей, а, наоборот, провоцировало еще больший рост заболеваемости и смертности. К тому же одной из распространенных причин высокой смертности мужчин долгие годы выступал массовый алкоголизм. Наряду с этим многие медицинские работники, фактически не получавшие зарплаты, покидали село, что тоже губительно отражалось на здоровье его жителей. В итоге уровень общей смертности среди них поднялся с 13,2‰ (в 1990 г.) и 16,5‰ (в 1995 г.) до 17,1‰ (в 2005 г.), то есть практически на 30%, оставаясь таким вплоть до середины 2000-х годов. Показатели рождаемости на селе, напротив, постоянно снижались - с 16,5^ (1990 г.) до 10,9^ (1995 г.), то есть сразу на ^ относительно дореформенного периода. Но и это был еще не предел, поскольку данное снижение продолжалось вплоть до начала 2000-х годов. В итоге сложилась ситуация, когда в большинстве сельских районов России общая смертность населения ежегодно на 60–80% была выше показателей рождаемости. При таком характере воспроизводства сельское население быстро сокращалось, и на всем протяжении 1991–2010 гг. в нем ни разу не фиксировался естественный прирост [22, с.134 (подсчет)].
Правда, к середине 2000-х годов в сельском населении проявилась слабая тенденция ежегодного прироста числа рождавшихся детей. Основой для такого поворота служили благоприятные перемены в возрастно -половой структуре жителей села, поскольку в это время в активный детородный возраст входили многочисленные поколения сельских женщин, родившихся в первой половине 1980-х годов. Известно, что именно в эти годы в СССР проводились эффективные государственные меры по стимулированию рождаемости, что через 20 лет обусловило ее новый подъем и на селе. И все же в 2000 -е годы в условиях переживаемого кризиса данный рост сдерживался материальными проблемами сельских семей и их неуверенностью в завтрашнем дне [13, с. 64; 29, с. 32]. В целом превышение уровня смертности над рождаемостью в «нулевые» годы по большинству регионов страны все еще оставалось ощутимым, достигая в отдельные годы до 10 раз. По этой причине потери сельского населения от естественной убыли оставались заметно выше, чем количественный ущерб от миграции из села.
Известно, что в 1990-е годы в миграционных процессах на селе произошли перемены: наряду с ощутимым сокращением общего оттока населения из села в город, отмечался и его прирост, за счет массового прибытия в Россию русскоязычных переселенцев, после распада СССР бежавших от преследований на этнической почве. Особую массовость данный приток приобрел в 1992–1994 гг., достигая 260–290 тыс. человек в год, но все же восполнить потери сельского населения от высокой естественной убыли ему не удалось. Основная причина заключалась в том, что значительную часть вынужденных переселенцев, прибывавших на село по данному каналу миграции, составляли горожане, стремившиеся поскорее уехать в город и окончательно там поселиться. Кроме того, уже к середине 1990-х годов временный прирост в сельском населении, обусловленный миграционным приростом, стал снижаться, а к концу данного десятилетия вообще иссяк. Как следует из имеющихся данных, в первой половине 2000-х годов миграционный приток на село уже резко снизился: например, в Центральном ФО – в 5,4 раза, в Северо-Западном ФО – в 2,4 раза и т.д. [21, с. 14].
Отметим, что рыночные преобразования 1990-х и частично 2000-х годов заметно изменили сельскую местность России и основные отрасли ее экономики. В процессе радикальной смены формы собственности большая часть колхозов и совхозов была ликвидирована, а на их месте возникали сельскохозяйственные предприятия уже рыночного типа. Радикальные реформы 1990-х годов у части жителей российского села вызвали активизацию предпринимательской деятельности, они стали повсеместно создавать свои частные фермерские хозяйства. Развитие рыночных отношений повлекло за собой изменения в размещении отдельных отраслей сельского хозяйства, частично перемещенных в более подходящие для этого районы. Все это вызвало не только определенные перемены в организации сельского пространства России, но и весьма болезненные экономические последствия, прежде всего быстрое «сжатие», то есть сокращение ранее освоенного пространства [17, с. 312].
Одновременно в начале ХХI в. происходило значительное снижение общего числа работников, занятых в производственной сфере села, то есть непосредственно в сельском и лесном хозяйстве. Так, в 2000 г., согласно официальной статистике, в целом по РФ в названных сферах экономики села работали 8996 тыс. человек, в 2006 г. – 7141 тыс., а в 2010 г. – лишь 6656 тыс. человек. Иными словами, за 10 лет общее число работников в непосредственно производственных отраслях – в сельском, лесном хозяйстве и охоте – сократилось на 2340 тыс. чел., или более чем на 25% относительно 2000 г. Данное обстоятельство отнюдь не способствовало росту занятости на селе, к тому же приводило к постепенной утрате сельским хозяйством своей роли системообразующего фактора всей сельской экономики. Основной причиной массового сокращения работавших аграриев стал не только общий недостаток рабочих мест на селе, но также минимальный уровень оплаты труда непосредственно в сельском и лесном хозяйстве, не достигавший и 50% от среднего уровня по России (2008–2009 гг.). Но даже при этом занятость в сельском, лесном хозяйстве и охоте в рассматривае- мый период еще оставалась доминирующей в сельской экономике на общем фоне одновременного снижения доли занятых в других отраслях сельской экономики. Из данных ежегодных мониторингов села видно, что с 2004 по 2010 г. общее число занятых в производственных отраслях села снизилось еще на 4,1%. Кроме того, следует учитывать, что снижение категории работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве, становилось непосредственным итом еще и общего сокращения обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, которое началось в 1990-е годы. Одновременно в других видах экономической деятельности села число работников, напротив, понемногу росло, особенно, в сфере финансов и операций с недвижимостью (на 6,4%) [5, с. 134].
Определенное представление о последствиях, к которым привело подобное снижение занятости в производственных отраслях села в будущем, от начала рыночной реформы и до конца 2000-х годов, дают следующие цифры. Если в 1989 г. общая доля занятых непосредственно в сельском хозяйстве в среднем по РСФСР еще составляла примерно 50%, то через 10–15 лет, после неудачной аграрной реформы, согласно данным специального исследования, проведенного на географическом факультете МГУ, она существенно снизилась. К примеру, в сельскохозяйственном производстве обследованных ими Тамбовской области и Республики Дагестан непосредственно работало чуть более ⅓ общего числа работников села. А в среднем по РФ к середине «нулевых» годов в сельском и лесном хозяйстве трудились уже лишь около 20% их общего числа [5, с. 134].
Свой вклад в сокращение общего числа занятых в сельской экономике вносила и начавшаяся в 2000-е годы модернизация аграрного производства, в процессе которой неизбежно высвобождалось определенное число работников. К тому же, исследователи современного российского села отмечают еще одну важную черту преобразований, развернувшихся в аграрной экономике 2000-х годов. Это начавшийся в ряде регионов РФ переход от трудозатратных видов занятости. Например, от животноводства к зерновому производству, для которого уже не требуется столько рабочих рук. Согласно данным Т.Г. Нефедовой и Н.В. Мкртчяна, ежегодно в рассматриваемый период из сел своих регионов в город выбывало от 90 до 174 тыс. сельских мигрантов. Данный миграционный отток сопровождался заметным уменьшением общей численности сельского населения, особенно в районах Дальнего Востока, Сибири и Европейского Севера [18, с. 25].
Среди важнейших причин, подталкивавших многих жителей к отъезду из села, становилось наличие множества весьма серьезных проблем, которые все никак не решались. По мнению самих селян, участвовавших в проведении в опросах, нормальное течение сельской жизни серьезно осложнялось следующими факторами: 1) низким уровнем доходов, бедностью; 2) пьянством; 3) безработицей; 4) тяжелым физическим трудом.
В целом свыше 70% опрошенных конкретной причиной своего недовольства назвали еще и недостаток рабочих мест, низкие заработки и отсутствие на селе условий для получения профессии, а также школ, детских садов, торговых и других предприятий быта. Молодежь жаловалась, что ей негде проводить досуг, поскольку в селах практически не осталось клубов и кинотеатров. Почти 30% респондентов резко осуждали рост пьянства в населении деревни, 5-7% - распространение наркомании среди молодежи. Все это способствовало формированию миграционных настроений у многих селян, особенно молодых. Общее количество потенциальных мигрантов из села постоянно нарастало, и к 2009 г. «точно уехать из села» собирались или, по крайней мере, уже задумывались о таком отъезде 25,2% респондентов, а через год - уже 26,5% и т.д. В 2010 г. дополнительно к названным проблемам почти четверть всех респондентов привели еще один очень веский довод — практическое исчезновение у них веры в то, что жизнь на селе скоро улучшится; еще 53% участвовавших в опросе выразили мнение, что их материальное положение в настоящее время хуже, чем они заслуживают. В итоге уже 28,8% опрошенных аграриев (вместо 25% годом ранее) заявляло о твердом желании уехать из села [31, с. 250; 32, с. 28; 33, с. 134].
Нарастание миграционных настроений у жителей села усиливалось еще и известной им неравномерностью социально-экономического развития в разных регионах страны, вследствие чего между ними имелась значительная разница в уровне и качестве жизни. Переезд в другой, более развитый в экономическом отношении регион или же хотя бы с лучшими климатическим условиями, по мнению потенциальных мигрантов, обещал им перемены к лучшему.
Исследователи постсоветской деревни пишут, что масштабы миграционного оттока ее жителей в города, или, выражаясь терминами недавнего прошлого, «отходничества селян на заработки», статистически очень трудно определить, так как никакой официальной статистики на этот счет не ведется [5, с. 25; 17, с. 312]. Однако это не совсем так, поскольку начиная с 1999 г. уже стали регулярно публиковаться доклады Центра ВНИИ экономики сельского хозяйства при РАСХН и МСХ по итогам ежегодных мониторингов села. Конечно, в них нет всех исчерпывающих статистических данных на этот счет, но они дают достаточное представление об основных направлениях и масштабах миграционных потоков, перемещавшихся по территории России, в том числе из села в город, о прибытии мигрантов из разных мест в сельскую местность [25].
Как уже отмечалось, на общую численность сельского населения РФ серьезное влияние оказывало два главных фактора: естественная убыль и последствия механического оттока сельского населения в город. Сопоставление масштабов естественной и миграционной убыли в сельском населении на протяжении первого десятилетия XXI в. показывает, что решающую роль все же играла естественная убыль (см. табл. 1).
Таблица 1
Изменение численности сельского населения РФ в 2000-е годы (тыс. чел.) *
|
Годы |
Численность населения |
Изменения. Общее сокращение (+, -) за год |
Естественная убыль |
Миграционная убыль |
|
2000 |
39470,6 |
- 238,7 |
- 274,2 |
- 2,6 |
|
2001 |
39231,9 |
- 307,9 |
- 271,7 |
- 51,9 |
|
2002 |
38924,0 |
- 281,6 |
- 281,9 |
- 26,7 |
|
2003 |
38642,4 |
- 292,6 |
- 281,6 |
- 34,7 |
|
2004 |
38349,8 |
- 405,1 |
- 260,2 |
- 28,6 |
|
2005 |
38754,9 |
- 106,2 |
- 287,7 |
- 22,6 |
|
2006 |
38648,7 |
- 206,1 |
- 230,3 |
- 28,1 |
|
2007 |
38442,6 |
- 206,8 |
- 145,7 |
- 9,1 |
|
2008 |
38235,8 |
- 22,2 |
- 113,3 |
- 22,1 |
|
2009 |
38213,6 |
- 4,4 |
-88,9 |
- 2,6 |
|
2010** |
37587,8 |
- 190,0 |
- 81,7 |
- 90,9 |
-
* Источник: Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2011 г. Вып.13. М.: ВНИИЭСХ, 2012. С. 9.
-
* * Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.: Стат. сб. Офиц. изд. М., Статистика России, 2011. С. 6-9.
Это утверждение базируется на данных таблицы 1, из которых следует, что общий негативный эффект от естественной убыли сельского населения превосходил масштабы миграционного оттока в город. Например, в 2003 г. в процентном отношении доля миграционного оттока в общем сокращении сельского населения России составляла лишь 8,5%, в то время как потери людского ресурса от превышения уровня смертности над рождаемостью – более 90%. Иными словами, «выморочный» фактор убыли жителей села многократно (до 7–10 раз) превосходил его потери от миграции.
Простой подсчет по данным таблицы 1 убеждает, что отрицательный прирост сельского населения, точнее его естественная убыль, за первые 10 лет ХХI в. суммарно составила 2317,2 тыс. человек, в то время как от миграции – всего 328 тыс., то есть как минимум в 7 раза меньше. Кстати, суммарные цифры потерь в численности сельского населения за 2000-е годы (табл. 1), полученные в ходе ежегодных мониторингов села, полностью кореллируют с оценкой их многолетнего руководителя – д.э.н. Л.В. Бондаренко. Она считает, что количествен- ные потери сельского населения за весь постсоветский период (с 1991 по 2010 г.) общим «накопительным итогом» составили порядка 4,7 млн человек [4, с. 3]. В то же время подсчеты по данным таблицы 1 показывают, что из этого числа 2317,2 тыс., то есть почти ½, приходится как раз на период 2000-х годов.
Но изменения в численности сельского населения не исчерпываются действием лишь этих двух причин. Еще одним фактором, частично ее корректирующим, послужили проводившиеся время от времени административнотерриториальные преобразования в регионах РФ, благодаря которым часть поселков городского типа вместе с населением возвращалась в сельскую поселенческую сеть или же, наоборот, часть сельских поселений переводилась в городскую черту. О влиянии этих преобразований свидетельствуют такие цифры: к началу 2009 г., по данным ежегодных мониторингов села, благодаря переводу части поселков городского типа в поселенческую сеть села ее население пополнилось на 113,2 тыс. жителей, что полностью нейтрализовало все его потери от естественной убыли [31, с. 9, 10].
Тревожным сигналом, подтверждавшим неблагоприятную ситуацию на селе в «нулевые» годы, служили негативные изменения в социальнопсихологическом климате села, возникавшие на фоне продолжавшегося экономического и финансового кризиса, которые значительно усиливали миграционные настроения его жителей. Продолжительное отсутствие рабочих мест и необходимых для жизнеобеспечения селян объектов социальной и инженерной инфраструктуры создавало реальную угрозу для сохранения трудового потенциала российского села.
Демографическая ситуация в сельской местности, несмотря на слабые признаки позитивных изменений, оставалась еще не простой, и главным залогом ее надежного улучшения могло стать лишь реальное повышение занятости и доходов жителей. Для этого как минимум требовались техническая модернизация сельскохозяйственного производства, повышение общей производительности труда и на этой базе – обеспечение более высокого уровня доходов аграриев. Важным фактором расширения их экономической занятости могла быть и активизация малого и среднего предпринимательства на селе, в том числе в не аграрных сферах сельской экономики. Однако средств на поддержку сельской занятости государство выделяло еще явно недостаточно, в том числе и для обеспечения рабочими местами имевшихся безработных.
Правительство РФ, учитывая сложившуюся ситуацию в сельских районах, в декабре 2002 г. приняло федеральную целевую программу «Социальное развитие села до 2010 г.», но для ее реализации нужны были огромные финансовые ресурсы, которые намечалось привлекать из нескольких источников: чуть более 10% их на себя брал госбюджет, 43% перекладывались на бюджеты отдельных субъектов РФ, а остальные должны были поступать из внебюджетных источников [34, с. 23, 24]. В то же время финансово-экономическое состояние россий- ских регионов оставалось крайне затруднительным и большинство их выживало за счет государственных дотаций. В силу этого фактическая реализация принятой государственной программы снова была под большим вопросом, вызывая сомнения. Это осознавали и сами жители села, особенно молодежь, которая, наблюдая общую бесперспективность жизни на селе, по крайней мере на ближайшие 10 лет, откровенно стремилась быстрее оттуда уехать.
В целом миграция из села в рассматриваемый период по-прежнему сохраняла свой трудовой характер, и ее основной целью было трудоустройство в городе. При этом, прежде всего, имелась в виду работа с достойной оплатой; а для молодежи, всей душой стремившейся поближе «к огням большого города», было важно, чтобы ее жизнь и досуг стали по-настоящему интересными. Иными словами, основная причина, по которой сельские жители покидали село, заключалась в общей неразвитости сельского рынка труда, социальной инфраструктуры и получаемых низких доходах.
Уже говорилось, что в начале ХХI в. в миграционной ситуации на селе значительно снизился приток беженцев из-за рубежа. Зато при общем недовольстве сельских жителей низким уровнем жизни происходило ощутимое усиление миграционных потоков в обратном направлении – из села в город. Особую массовость они приобрели в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, откуда селяне довольно активно выбывали в города, причем не только своего региона, но и других частей России.
Что касается встречного потока – прибытия мигрантов на село, то в 2000– 2004 гг., по имеющимся данным, число въезжавших в него заметно снизилось по сравнению с 1996–2000 гг. Лишь в 10 субъектах Российской Федерации (Московской, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Орловской, Калининградской и Самарской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Адыгее) еще сохранялось общее положительное сальдо сельской миграции, главным образом за счет миграционного притока из других областей России. Самый высокий прирост сельского населения за счет мигрантов в первое пятилетие ХХI в. ощущался на европейской территории РФ – в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, а на Урале объем внутрироссийской миграции, напротив, снизился на 20%. Одновременно в Северо-Западном и Южном ФО отличительной чертой миграционных перемещений становилось сочетание оттока сельского населения в город и многотысячных выездов горожан из этих регионов в другие части страны. Так, в села Северо-Западного ФО за 2000–2004 гг. переселилась 21 тыс. человек, а из его городов выехало почти 45 тыс., что в 2 раза больше, чем прибыло на село. В Южном ФО местное сельское население тоже активно уезжало, например из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии. При этом в сельскую местность всего Южного ФО из других мест прибыло 22 тыс., а его города потеряли лишь 8,5 тыс. человек [14, с. 16, 17, 19]. Весьма существенной разницей в темпах миграционного оттока из села был тот факт, что пригородные сельские населенные пункты и сельские административные центры (при сельсоветах) теряли свое население значительно медленнее, чем периферийные села.
Современные исследователи справедливо подчеркивают, что обычно на «отход» в город решаются наиболее работоспособные представители современного села, в других условиях способные послужить ему надежной опорой. Потенциальные мигранты были нацелены не только на рост благосостояния своих семей, но и на обучение детей. Из опросов сельских жителей, особенно из мелких деревень, видно, что отходничество было их осознанным выбором, хотя в некоторых семьях такое решение главы семьи нередко приводило и к разводу [17, с. 29].
Общие итоги межрегиональных перемещений по территории России показывали, что за первые 5 лет ХХI в. из ее сельской местности выбыло на 215 тыс. человек больше, чем прибыло. Количество прибывавших на село мигрантов не отличалось особой стабильностью в разные годы, и поэтому, например, в 2002 г. в село прибыло на 682,7 тыс. человек, или на 15%, меньше, чем в 2001 г. Среди прибывавших в эти годы на село еще встречались мигранты из стран СНГ и Балтии, хотя их общее число к 2004 г. уменьшилось в 2,4 раза по сравнению с 2000 г., то есть данный канал миграции явно прекращал свое действие [26, с. 17, 18; 14, с.14].
Во второй половине «нулевых» годов ХХI в. миграционный отток населения из села продолжился и после некоторого снижения в 2006 г. быстро восстановился на уровне 2002–2005 гг. Но в 2009 гг. общая миграционная убыль из российских сел внезапно резко снизилась – до 51,3 тыс. человек, хотя еще в 2008 г. эта цифра была значительно выше. Это, безусловно, было связано с мировым финансовым кризисом 2008 г., затронувшим, как известно, многие страны, где произошло резкое замедление темпов роста ВВП.
В России в 2009 г. рост ВВП тоже снизился почти на 9% относительно 2007 г., что незамедлительно отразилось и на общей экономической конъюнктуре: городские предприятия тоже сократили объем привлекаемой рабочей силы (почти на 10%). В свою очередь, это отразилось на сокращении общего масштаба трудовой миграции из села: с 28,1 тыс. человек в 2006 г. до 22,1 тыс. чел. в 2008 г. Исследователи отмечали, что столь масштабного спада миграционного выбытия из села после 1996 г. еще не было [31, с. 32].
Среди сельской молодежи до 20 лет уровень безработицы был особенно высок: в целом по России он в 2,6 раза превосходил средние показатели по всему экономически активному сельскому населению, в том числе среди 20–29-летних – в 1,4 раза. Социологический опрос 2005 г. подтверждал, что 56% занятой в общественном производстве молодежи отмечали, что очень боятся ее потерять. Однако слабый и в целом неустойчивый спрос на молодую рабочую силу в селах оказывал гнетущее воздействие, особенно на фоне практически полного отсутствия рабочих мест в сферах, альтернативных сельскому хозяйству [27, с. 173; 3, с. 28-29].
Между тем массовое участие молодого поколения в трудовой миграции в город становилось особенно тяжелой потерей для села, учитывая, что именно молодежь служила основой всего контингента сельских мигрантов. В 2000-е годы высокая миграционная активность сельской молодежи – наиболее грамотной, дееспособной и перспективной части российского села – воспринималась не просто как острая социальная проблема, но уже как угроза устойчивому развитию сельских территорий вообще. При опросах сельского населения Алтайского края (2007 г.) такое мнение высказывали уже не только представители сельской власти, но и весь сельский бизнес [6, с. 75; 15, с. 134-135].
Массовые отъезды молодежи из села причиняли огромный урон кадровой проблеме всего аграрного сектора, резко усиливая и без того острую нехватку квалифицированной рабочей силы. Правда, рабочих мест, для которых требовалось бы специальное образование или профессиональная подготовка, на селе было крайне мало, что подтверждало преобладание там спроса лишь на неквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Данное обстоятельство буквально выталкивало молодежь из села, поскольку из-за этого многие просто не видели для себя перспективы там оставаться. Иными словами, российское село в 2000-е годы столкнулось с реальной угрозой утраты значительной части и без того небольшого молодежного контингента – основного трудового ресурса экономического роста [32, с. 251].
К сожалению, молодежная политика государства 1990-х годов учитывала в основном интересы городской молодежи, совершенно не затрагивая положения молодых поколений села. Правительство России стремилось не замечать до предела обострившихся проблем несоответствия между современными запросами сельской молодежи и реальным состоянием социальной и трудовой сферы в аграрном секторе [19, № 437-438]. Кроме того, следует учесть, что за время разрушительных реформ 1990-х годов на селе резко упал общий престиж сельскохозяйственного труда – чрезмерно тяжелого физически и при этом крайне низкооплачиваемого. Многие молодые селяне, закончившие среднюю школу, учитывая это, еще больше стремились любой ценой обрести интересную и при этом достойно оплачиваемую работу в городе. Сельская молодежь болезненно реагировала на сложившееся отношение государства к селу, и это еще больше укрепляло ее решение уехать в город. Немалую роль в таком решении играли средства массовой информации, ставшие в эти годы мощным средством формирования жизненной позиции и взглядов молодежи. Изучение ценностных ориентаций сельского населения (Институт социальной политики РАН, 2003 г.) показывало, что влияние СМИ, особенно телевидения, для сельской молодежи стало основным средством ее интеграции в информационный мир и происходящие события.
Если сравнивать с городской молодежью, то данное влияние на молодых селян было многократно выше [23, с. 96].
Среди трудовых мигрантов из села доля молодежи 16–30 лет, например в 2002 г., по стране была в 1,9 раза выше, чем остальных возрастных групп. Иными словами, на отъезд в город было настроено большинство сельской молодежи, причем не только на трудоустройство, но и ради получения образования и специальности, нужной в городе [26, с. 17-18, 27, с. 173].
По мере внедрения рыночных отношений в стране в миграционных потоках сельской молодежи, настроенной на переезд в город, происходили изменения, особенно в ее ориентации и конкретной цели смены места жительства. В 2000-е годы высокой миграционной активностью отличалась сельская молодежь Алтайского края и регулярные опросы сельских жителей помогали выяснить ее основные миграционные предпочтения. Оказалось, у молодых селян к этому времени были уже иные, чем прежде, приоритеты при выборе места будущего места проживания. Теперь их уже не привлекали не только другие села своего края, но даже его города. По их представлению, место будущего проживания в первую очередь должно было оптимально соответствовать их важнейшим требованиям. Для молодых селян, покидавших алтайское село, в качестве главного критерия выбора будущего ПМЖ рассматривались в основном города, с реальным шансом на улучшение своего материального уровня, в том числе за счет положения на рынке труда, дающего преимущество в зарплате. Из этого следовало, что их основной целью было все же улучшение материального положения. Характерно, что из общего числа сельской молодежи края, стремившейся в город, лишь 7% планировало после учебы или работы вернуться обратно в село для дальнейшего проживания, а также то, что девушки стали чаще мужчин покидать село [15, с. 136-137].
Следует подчеркнуть, что в городе за период рыночных реформ общая экономическая ситуация существенно переменилась: там тоже появилась своя армия безработных и острый дефицит вакансий. В результате складывалась серьезная конкуренция за рабочие места – не только среди местных безработных, но и между ними и прибывшими мигрантами из села, причем обычно не в пользу последних. Тем более что у безработных горожан все же, как правило, было важное преимущество – крыша над головой, свое жилье. В советский период в стране действовала система организованного набора рабочей силы и даже сельскохозяйственных переселений, нацеленных на обеспечение или пополнение трудовыми ресурсами предприятий и строек. Завербовавшимся рабочим, в том числе из села, городские предприятия гарантировали места в общежитии, равно как и возможность пользоваться лечебными и социально-бытовыми учреждениями [20, с. 9, 10, 21].
Однако в 2000-е годы переход к рыночным отношениям серьезно осложнил адаптацию в городе трудовых мигрантов из села. В отличие от практики предыдущих лет проблему с жильем им приходилось решать уже самостоятельно, хотя его аренда стоила им немалой части заработка. Особую остроту данная проблема приобрела для сельских мигрантов, в основном из-за высокой стоимости жилья. Именно это, а не административные ограничения (регистрация или оформление на работу), серьезно останавливало сельских мигрантов, осознавших, что им постоянно закрепиться в городе, даже на какой-то срок, уже практически нереально [16, с. 56].
Представляется, что резкое повышение стоимости жилья, серьезно осложнившее сельским мигрантам устройство в городе, отчасти способствовало и более широкому распространению паллиативных форм сельской миграции. В 2000-е годы значительно чаще, чем ранее, практиковались и другие формы миграции в город. Наряду с теми выходцами из села, которые окончательно закрепились в городе, немало сельских жителей, особенно из пригородных поселений, находившихся недалеко от транспортных магистралей, активно пополняли ряды «маятниковых» мигрантов.
Ежедневно на пригородных электричках или автобусах они совершали поездки в город, на что у них уходило не более полутора-двух часов, а по вечерам возвращались с работы домой в село. Из конкретного материала видно, что основными участниками «маятниковой» миграции были представители среднего и даже пенсионного возраста, однако и молодые жители села не были редкостью. Подобная практика позволяла «маятниковым» мигрантам, проживавшим в селах, все же работать в городе – на заводах, в строительных, торговых и других организациях. Общее представление о реальных масштабах маятниковой миграции сумел своеобразно передать один из руководителей сельсовета, расположенного вблизи Барнаула: «Каждое утро из таких сел на работу в город выезжает от ⅓ до ½ их жителей, и села пустеют» [15, с. 146].
В первом десятилетии ХХI в. большее распространение получила и обратно направленная миграция – из города на работу в село. Нередко после завершения учебы и получения специальности часть сельских мигрантов оставалась в городе, но зарабатывать предпочитала в селе – собственным трудом у фермеров или в созданных ими же с помощью родителей мелких торговых или транспортных организациях. Иногда молодые люди как начинающие фермеры или предприниматели получали для этого специальные гранты в 1,5-3 млн рублей [15, с. 154-155 ].
В результате активных перемещений разнонаправленных потоков сельских трудовых мигрантов в стране постепенно оформились две противоположные территориальные группы.
Первая — сельские регионы-реципиенты, которые активно принимали прибывавшее население из других мест. За счет его притока в данной группе российских территорий происходило пополнение их сельского населения. Например, в 2008 г. самые высокие коэффициенты миграционного прироста в населе- нии села отмечались в таких экономически развитых регионах, как Московская область и Подмосковье, Калининградская и Ленинградская области, где они соответственно составляли по 114, 82,5 и 78 человек на каждые 10 тыс. постоянного населения. При этом в Московской области миграционный прирост по сравнению с 2005 г. вырос в 1,5 раза, а в Калининградской – в 1,3 раза [31, с. 248].
Другая группа территорий быстро теряла свое сельское население, которое уезжало, недовольное прежде всего экономическими условиями жизни в их сельской местности. Такие территории считались регионами-донорами, поскольку они отдавали собственных мигрантов в пользу других субъектов России. Среди территорий-доноров, быстрее других терявших свое сельское население вследствие миграции, практически на всем протяжении «нулевых» годов безусловным лидером был Дальневосточный ФО. Общий объем миграционной убыли из его сельской местности постоянно характеризовался наивысшими коэффициентами выбытия, а его мигранты в поисках лучших условий жизни выезжали в основном в европейскую часть России. При этом максимум убыли происходил из сел Магаданской области (995 чел. на 10 тыс. населения), Корякского и Таймырского АО (196 и 125 соответственно), Камчатской области (113), Чукотского АО (136) и Республике Тыва (95). В Сибирском ФО больше всего сельских мигрантов выезжало из Республики Тыва, Красноярского края, Томской и Читинской областей. В Северо-Западном ФО больше всего мигрантов уезжало из сел Республики Карелия и Архангельской области. Однако своими объемами выбытия из села всех опережала Псковская область, миграционный отток из которой был главной причиной убыли ее собственного сельского населения (минимум по 1,5 тыс. человек ежегодно) [31, с. 248]. Это позволяло рассматривать данные районы Северо-Запада как территории-доноры, поставлявшие собственных мигрантов другим регионам, чаще всего более благополучной в экономическом отношении Вологодской области.
Исходя из данных о миграционных потоках сельского населения по отдельным субъектам РФ можно сделать вывод, что на протяжении 2000-х годов интенсивной миграционной убылью из села было охвачено уже подавляющее большинство (не менее 63) регионов страны. Этот факт напрямую отразился на сокращении числа тех субъектов России, которые еще сохраняли миграционный прирост своего сельского населения. Как и ранее, максимально привлекательными для сельских мигрантов оставались крупнейшие экономические центры – Московская, Ленинградская, Калининградская области и Краснодарский край, где доля прибывавших по-прежнему оставалась наиболее высокой. При этом из данных выборочных опросов межрегиональных трудовых мигрантов (за 2010 г.) видно, что более половины (52%) общего числа «отходников» привлекала Москва; еще 11% – Московская область. Данная агломерация собирала мигрантов не только из сел, но и многих городов Европейской России. Приток сельских мигрантов в них лишь нарастал: только за 2005 г. в Московскую и Калинин- градскую области их прибыло в 1,5 и 1,3 раза больше соответственно, чем годом ранее. В целом за 2000-е годы в направлениях и масштабах миграционного передвижения больших изменений в убыли сельского населения по отдельным регионам РФ не произошло. По-прежнему высокими темпами сокращалось сельское население в районах Дальнего Востока, а также в ряде областей Центрального, Северо-Западного и некоторых других федеративных округов РФ. Одновременно в Северо-Кавказском и Южном ФО складывалась иная картина [32, с. 31].
Что касается общей численности сельского населения России, то она по-прежнему уменьшалась, и темпы убыли в 2002–2010 гг. были даже более ощутимы, чем в предыдущие годы. В частности, в 1989 г. общая численность сельского населения РСФСР составляла еще 39 063 тыс., а в 2002 г. – уже 38 737 тыс. человек, то есть сокращение за 13 лет составило 326 тыс. человек. Иные результаты получаем при сопоставлении данных переписей 2002 и 2010 гг.: общее число жителей села по России уменьшилось с 38 737 тыс. до 37 542,8 тыс. человек, то есть всего за 8 лет общая численность жителей российского села сократилась значительно больше – на 1194,2 тыс. человек (или на 3,2%). В то же время процентная доля сельских жителей в общем населении РФ за эти годы осталась практически неизменной: 27% в 1989 г., 26,7% в 2002 г. и 26,3% в 2010 г. [8, с. 10; 10, с. 11].
Но все же основным негативным следствием миграционного перемещения сельского населения по стране становилось все большее «сжатие» обжитой сельской территории, прежде всего потому, что основная часть селян все же мигрировала в города. В то же время остальные хоть и выбирали сельскую местность других частей России, предпочитали при этом те регионы, в которых социальнотрудовая сфера развивалась более успешно, обеспечивая не только рабочими местами, но и более высоким уровнем доходов.
Как отмечалось выше, на всем протяжении периода 2000-х годов наиболее масштабные потоки трудовых мигрантов из села формировались в районах Дальнего Востока, Сибири, в меньшей мере – в Северо-Западном, Центральном и Приволжском ФО. При этом в местах оттока и прибытия мигрантов происходили соответствующие изменения и в возрастно-половом составе их сельских жителей. В результате, как показывает конкретный материал, с 2002 по 2010 г. в сельском населении всех без исключения федеральных округов РФ произошло знаковое событие – определенный прирост процентной доли лиц трудоспособного возраста, от 16 до 60 лет включительно. Данный прирост в них оказался, естественно, разным, но в среднем по России он за эти годы поднялся с 54,1% до 59,2%, то есть на 5,1% (см. табл. 2).
Примечательно, что конкретный объем прироста по группе трудоспособных в сельском населении отдельных ФО напрямую зависел от той роли, которую он играл в общей системе миграционного перемещения из села. Иными сло- вами, являлся ли данный ФО реципиентом, принимавшим поток прибывавших мигрантов из села, или же он был для них регионом-донором, вынужденно отдававшим часть своего сельского населения другим?
Учитывая, что в материалах Всероссийской переписи населения такие данные впервые приведены лишь в 2010 г., то в целях хронологического сопоставления нами использованы соответствующие данные за 2000 г. – из доклада ВНИИЭСХ по итогам мониторинга состояния села (см. табл. 2).
Таблица 2
Удельный вес лиц трудоспособного возраста (от 16 до 60 лет) в общем составе сельского населения федеральных округов РФ, %*
|
Территория |
2000 г. |
2010 г. |
Увеличение (%) |
|
Российская Федерация, всего |
54,1 |
59,2 |
+ 5,1 |
|
В том числе ФО: Центральный |
51,5 |
58,3 |
+ 6,8 |
|
Северо-Западный |
55,7 |
60,2 |
+ 4,5 |
|
Южный |
54,3 |
59,2 |
+ 4,9 |
|
Северо-Кавказский (образован в январе 2010 г.) |
н/свед. |
59,7 |
= |
|
Приволжский |
52,8 |
58,8 |
+ 6,0 |
|
Уральский |
56,0 |
59,5 |
+ 3,5 |
|
Сибирский |
56,1 |
59,2 |
+ 3,1 |
|
Дальневосточный |
60,3 |
61,1 |
+ 0,8 |
* Источник : Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. В 11 т. Т.2. Возрастно-половой состав и состояние в браке. Офиц. изд. М.: Статистика России, 2012. С. 290; Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2004 г. Вып. 6. М.: ВНИИЭСХ, 2006. С. 25.
Как видно из табл. 2, предположение о наличии прямой зависимости между величиной прироста доли трудоспособных групп в сельском населении и масштабами миграции в разных федеральных округах РФ получает подтверждение. Наиболее наглядно это видно на примере ЦФО, который в 2000-е годы являлся не просто территорией-реципиентом, но буквально лидером по приему у себя сельских мигрантов из других мест, несмотря на то, что и сам частично терял свое сельское население в процессе его выбытия. И все же не случайно, что именно в ЦФО прирост доли лиц трудоспособного возраста в сельском населении имел максимальное значение (+ 6,8%), что превышало средний показатель по стране (+5,1%). Многолетние обследования сел, проводившиеся в областях Центрально-Нечерноземной зоны РФ, постоянно сообщали о значительном вы- бытии мигрантов из ее сельской местности. Кроме того, в них отмечалось, что местные сельские жители сами в своих селах работали редко и практически половина прописанного там трудоспособного населения по месту жительства не работала. Причины те же: закрывшееся сельхозпредприятие или низкие зарплаты, заставлявшие искать работу в городе. В результате одна часть трудовых мигрантов из сел названного региона РФ работала и проживала в городе, а другая – лишь время от времени уезжала из села «в отход» в город [5, с. 9].
На втором месте по величине прироста доли трудоспособных среди селян – Приволжский ФО, в котором данная группа с 2000 по 2010 г. пополнилась на 6,0%. Это следует оценивать не только как результат положительного сальдо сельской миграции, но и сохранявшегося естественного прироста на селе, прежде всего в Татарии и в ряде других районов Поволжья. К числу регионов со вполне сопоставимым уровнем данного прироста (+ 4,5%) следует отнести и Северо-Западный ФО, куда в «нулевые» годы был устремлен стабильно высокий приток из сел других частей России, что в итоге позволило перекрыть ущерб от миграции в собственном сельском населении.
И вполне ожидаемый итог: минимальный, но все же прирост доли трудоспособных групп в сельском населении имели традиционные территории-доноры – Сибирь и Дальний Восток. Именно в них, не только из села, но и города, на всем протяжении 2000-х годов, как было показано, миграционные потоки активнее, чем из других регионов, устремлялись в Европейскую часть России, особенно в ее центральные и северо-западные области. И, как показывает сопоставление конкретных данных мониторинга сельской трудовой сферы за 2000 г. с цифрами Всероссийской переписи населения 2010 г., именно в этих мощных азиатских регионах России прирост доли трудоспособных в сельском населении в итоге оказался минимальным: в Сибирском ФО +3,1% и еще меньше – на Дальнем Востоке (+0,8%) [30, с. 12; 10, с. 299].
На основании анализа данных о различной величине повсеместно отмечавшегося прироста доли трудоспособных возрастов в общем составе сельских жителей отдельных федеральных округов России можно сделать следующий вывод. Сельские трудовые мигранты, перемещаясь по территории страны в поисках более приемлемых для себя экономических условий, отчасти способствовали некоторой оптимизации возрастного состава, в частности повышению доли трудоспособных в сельском населении мест их прибытия. Поскольку в составе сельских мигрантов преобладали молодые люди, в основном до 39 лет, их прибытие в другие регионы страны позволило благоприятно отразиться и в общем росте процентной доли наиболее активной части жителей села – лиц трудоспособного возраста. Данный вывод, на наш взгляд, следует оценивать как один из позитивных итогов развития трудовой миграции на селе. Иное дело – в местах максимального оттока мигрантов. Там такая оптимизация возрастного состава сельских жителей хоть и произошла, но в минимальной степени.
В Южном ФО также отмечался заметный прирост доли наиболее дееспособных селян в возрасте от 16 до 60 лет (+ 4,9%). Однако в данном случае основную роль в этом играл не миграционный приток на село, но, прежде всего, сохранявшийся высокий естественный прирост в сельском населении Северного Кавказа. В целом по России в 2000-е годы лишь республики Южного и СевероКавказского федеральных округов оставались еще относительно благополучной зоной воспроизводства сельского населения. Там еще сохранялся естественный прирост населения в сельской местности, прежде всего в Дагестане, Кабардино -Балкарии, Северной Осетии и в соседней Калмыкии. Но даже в этих южных регионах ситуация с численностью жителей села складывалась неоднозначно.
В селах названных регионов тоже происходил, причем довольно интенсивный, миграционный отток, порой превышавший естественный прирост сельского населения до 2-2,5 раз, что приводило уже к его сокращению. Но и в других субъектах Северного Кавказа (Адыгеи, Ингушетии, Чечни и Краснодарского края) на протяжении периода «нулевых» годов естественный прирост в сельском населении сохранялся. Все это происходило несмотря на довольно ощутимую миграционную убыль в других регионах [30, с. 12; 10, с. 290; 14, с. 32-33].
Таким образом, из предпринятого анализа сельской миграции в 2000 -е годы следует, что ее главным побудительным моментом являлись, прежде всего, причины экономического характера. На данном историческом этапе, после затяжного кризиса 1990-х годов, буквально разорившего аграрное производство и вызвавшего массовую безработицу, в отдельных сельских территориях сохранялись существенные различия в уровне общего социально -экономического развития. Не удивительно, что наиболее масштабные миграционные потоки из села устремлялись в наиболее развитые экономические центры страны. Немалую роль в выборе направления миграционного оттока из села играл также природно-климатический фактор, который способствовал не только развитию южных территорий России, но и общему перераспределению населения страны.
В то же время миграционный отток из села в город имел для него самого самые негативные последствия. В рассматриваемые годы, как и ранее, он был прямым подтверждением экономического неравенства между городом и сельской местностью, прежде всего, из-за высокого уровня бедности на селе и сохранявших там острых экономических проблем. Не случайно отток сельского населения в город получил название «трудовая миграция», поскольку в его основе были факторы безработицы, нехватки рабочих мест и крайне низкого уровня оплаты труда на селе. Особенно острой проблемой российского села в начале 2000-х годов являлась высокая миграционная активность молодежи. Многочисленные выезды сельской молодежи в города вызывали не просто сокращение трудовых ресурсов села, они серьезно препятствовали накоплению в нем «человеческого капитала», поскольку вместе с молодыми мигрантами российское село теряло наиболее ценных и перспективных своих жителей.
И все же, оценивая последствия миграционных перемещений сельского населения в город, следует отметить, что в постоянном сокращении его численности главная роль принадлежала все-таки естественной убыли – результату превышения имевшегося уровня смертности над рождаемостью, В то же время масштабы потерь от миграционного оттока, как правило, оказывались значительно ниже. Поэтому в масштабах всей России сельские миграции ощутимого воздействия на численность жителей села оказать не могли. В процессе миграционного оттока из села реально происходило межрегиональное перераспределение сельского населения по стране – в основном в соответствии с индивидуальным выбором мигрантами более подходящих им регионов для дальнейшей жизни (работа, зарплата, место проживания и т.д.). Именно так происходила концентрация прибывавших мигрантов в наиболее подходящих, по их представлению, местах, в то время как сельская местность с менее привлекательными для них возможностями все больше пустела.
Одновременно развитие миграционных процессов из села так или иначе приводило к изменению всей сельской поселенческой структуры, поскольку убыль населения происходила преимущественно из периферийных сельских районов, поэтому в стране постепенно все заметнее сокращалось общее число мелких и даже средних поселений. При этом с географической карты сельской местности исчезали и полностью «обезлюдевшие» населенные пункты, из которых ушло население. К концу 2010 г. доля таких деревень в целом по сельской России поднялась уже практически до 13%, вместо неполных 12% в начале 2000-х годов.
Продолжение количественной убыли сельского населения, особенно молодежи, самым активным образом участвовавшей в миграционных процессах, ставило под угрозу и само существование трудового потенциала села. Депопуляция сельской местности России неизбежно сопровождается общим сокращением, «сжатием» ранее освоенного и обжитого сельского пространства. При этом еще больше возрастает количественное несоответствие между численностью сельского населения и громадными пространствами сельских территорий России, что приобретает крайне опасный характер. В этой связи необходимо больше уделять внимания всестороннему развитию села, выделяя для этого более масштабные финансовые и материальные ресурсы, чтобы сдерживать его население от миграционного оттока. Без принятия надлежащих государственных мер в перспективе это способно привести к полной утрате контроля над сельскими территориями нашей страны.
Список литературы Особенности сельской миграции в России (2000-е годы)
- Алексеев А.И., Сафронов С.Г. Изменение сельского расселения в России в конце ХХ – нач. ХХI вв. // Вестник МГУ. Сер. 5: Геогр. – 2015. – № 2.
- Бондаренко Л.В. Сельская Россия в начале ХХI в. (социологический аспект) // Социологические исследования. – 2005. – № 11. – С. 69-76.
- Бондаренко Л.В. Проблемы развития сельских территорий // АПК: экономика, управление. – 2009. – № 12.
- Бондаренко Л.В. Занятость, доходы и потребление сельского населения. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2012. – 128 с.
- Великий П.П. Неоотходничество, или лишние люди современной деревни // Социологические исследования. – № 9.
- Вознесенская Е.Д. Молодые рабочие: из села в город // Социологический журнал. – 2013. – № 3.
- Зайончковская Ж.А. Миграция и урбанизация, которые изменили Россию // Демоскоп Weekly / demoscope/ru
- Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. в 14 т. Т. 14. Сводные итоги. Офиц. изд. – М.: Статистика России, 2005. – 494 с.
- Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Т. 1. Численность и размещение населения. – М.: Статистика России, 2004. – С. 10-34 (подсчет).
- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. В 11 т. Т. 2 Возрастно-половой состав и состояние в браке. Офиц. изд. – М.: Статистика России, 2012. – С. 345 с.
- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. В 11 т. Т. 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке. Офиц. изд. – М.: Статистика России, 2012. – 467 с.
- Колесников С.В. Демографическая ситуация и уровень жизни населения: основные тенденции последних лет // Почему вымирают русские. Последний шанс. – М.: ЭКСМО Алгоритм, 2004. – 282 с. – С. 64.
- Миграционные процессы в сети сельских поселений РФ в 1995–2004 гг. – М.: ИСПИ РАН, 2005. – 35 с.
- Миграция сельской молодежи: в фокусе – Алтайский край. – Барнаул: изд-во Алт. гос. ун-та, 2019. – 324 с.
- Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф., Казенин К.И. Внутренняя миграция как ресурс развития России. Социально-экономическая эффективность, издержки и ограничения // Научные доклады РАНХ и ГС. 20/1. – М.: Дело, 2020.
- Нефедова Т.Г. Десять актуальных вопросов о сельской России. Ответы географа. – Изд. 2-е. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 452 с.
- Нефедова Т.Г., Мкртчян Н.В. Миграция сельского населения и динамика сельскохозяйственной занятости в регионах России // Вестник МГУ. Сер. 5: Геогр. – 2017. – № 5.
- Нефедова Т.Г., Никулин А.М. Сельская Россия: пространственное сжатие и социальная поляризация // Демоскоп Weekly. – № 437-438. 4-17 окт. 2010 г.
- Пискунов С.А. Государственная политика переселения и ее реализация на территории РСФСР (вторая половина 1940–1980-е гг.): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Тамбов, 2017. – 25 с.
- Российский статистический ежегодник, 2012: Стат. сб. – М.: Госкомстат России. – 2012. – 332 с.
- Силласте Г.Г. Влияние СМИ на жизненные планы сельской учащейся молодежи // Социологические исследования. – 2004. – № 12.
- Смирнов С.М. А я еду за работой. Туман не приложится // Ш междунар. конф. сообщества проф. социологов. – Мантурово (Костром. обл.), 2012. – 226 с.
- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 1999 г. – М.: ВНИИЭСХ, 2000. – 159 с.
- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга. – Вып. 5. – М.: ВНИИЭСХ, 2003. – 121 с. С.17-18.
- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2004 г. – Вып. 6. – М.: ВНИИЭСХ, 2005. – 268 с.
- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2005 г. – Вып. 7. – М., 2006. – 184 с.
- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2006 г. – Вып. 8. – М.: ВНИИЭСХ, 2007. – 217 с.
- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2007 г. – Вып. 9. – М.: ВНИИЭСХ, 2008. – 227 с.
- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2009 г. – Вып. 11. – М.: ВНИИЭСХ, 2010. – 260 с.
- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2010 г. – Вып. 12. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2011. – 263 с.
- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2012 г. – Вып. 14. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2013. – 242 с.
- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 г.», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 3 дек. 2002 г. № 858. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. – 436 с.