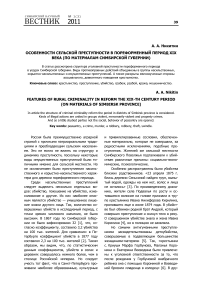Особенности сельской преступности в пореформенный период XIX века (по материалам Симбирской губернии)
Автор: Никитин Александр Александрович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена структура уголовной преступности пореформенного периода в уездах Симбирской губернии. Виды противоправных действий объединены в группы насильственных, корыстно-насильственных и имущественных преступлений. А также раскрыты малоизученные стороны асоциального, девиантного поведения крестьянства.
Крестьянство, преступление, убийство, грабеж, разбой, кража, мошенничество
Короткий адрес: https://sciup.org/14113582
IDR: 14113582
Текст научной статьи Особенности сельской преступности в пореформенный период XIX века (по материалам Симбирской губернии)
Россия была преимущественно аграрной страной с прочными патриархальными традициями и преобладающим сельским населением. Это не могло не влиять на структуру и динамику преступности, поскольку некоторые виды имущественных преступлений были типичными именно для сельской местности. Но не исключением были преступления насильственного и корыстно-насильственного характера для деревни пореформенного периода.
Среди насильственных преступлений следует выделить несколько отдельных видов: убийство, покушение на убийство, изнасилование и другие. Из них наиболее опасным является убийство — умышленное лишение жизни другого лица. Так, количество совершаемых убийств в исследуемый период, с точки зрения числового значения, не было высоким. В 1867 году по Симбирской губернии их было зафиксировано 32 [1], что, согласно коэффициенту, составило 3,2 убийства на 100 тыс. жителей. Для сравнения: в Петербурге коэффициент убийств в 1877 году составлял 2,3 на 100 тыс. жителей [2]. Таким образом, мы видим, что, по статистическим данным коэффициентов, убийств в селах и деревнях совершалось немного более, чем в столице Российской империи. Но следует учесть тот факт, что в Санкт-Петербурге проживали наиболее образованные, культурные и привилегированные сословия, обеспеченные материально, которые не совершали, за редкостными исключениями, подобные преступления. Жителей же сельской местности Симбирского Поволжья подталкивали к убийствам различные причины: социально-экономические, психологические.
Особенно распространены были убийства близких родственников. «23 апреля 1875 г. близь деревни Сенькиной найден труп, вымытый водой, одежды на нем нет, волос и лица не осталось» [3]. По произведенному дознанию, жители села Подвалья по росту и оставшимся волосам на голове признали в трупе крестьянина Ивана Никифорова Кирилина, пропавшего еще в июле 1874 года. В убийстве был обвинен родной брат Андрей, который совершил преступление и скинул тело в реку. О совершенном убийстве знала и жена Ивана Кирилина [4], но в полицию не заявляла.
Но самыми антигуманными преступлениями засвидетельствованы детоубийства, совершаемые в подавляющем большинстве женщинами-матерями [5]. Так, «крестьянки с. Криуши Марфа Горбунова, Маланья Коронина и Екатерина Воеводина были привлечены к уголовной ответственности за то, что после рождения у Горбуновой внебрачного ребенка она с помощью Корониной и Воеводиной бросили младенца в колодец» [6]. В дру- гом случае солдатка Татьяна Афанасьева Гусева с. Старого Тукшума в 1864 году родила и зарыла в землю новорожденного младенца мужского пола [7]. Сенгилеевским уездным исправником в ходе дознания была установлена причина поступка. «На расспросы объяснила солдатка, что она с неизвестным имела любовную связь и забеременела, почувствовав время родов, боясь мужа, который, отпуская ее, строго приказал вести себя хорошо, обещаясь в противном случае наказать…» [8]. Причинами совершения детоубийства, с одной стороны, являлись осуждающие взгляды общества на незаконные или внебрачные рождения, с другой стороны, опасение негативных последствий от близких родственников.
А последствия могли иметь наихудшее развитие событий. К примеру, «в Симбирском уезде в селе Средних Тимерсянах в ночь на 27 января 1884 года крестьянин Петр Федоров, заподозрив жену свою Марию Гавриловну в распутной жизни, зарезал её…» [9].
Из вышеперечисленных фактов мы видим, что положение крестьянских женщин в обществе, семье оставалось неравноправным, приниженным, и причиной этому был не только менталитет крестьян, но и прежде всего слабая юридическая защищенность их прав. Всё основное время крестьянок проходило в замкнутости круга домашних обязанностей и в повиновении жены мужу согласно религиозным догматам. Последнее часто приводило к бытовому насилию в семейных отношениях. Реакцией женщин на свое бесправное положение служил новый виток злокачественной агрессии, направленный на мужей и проявляющийся в преступлениях двух форм: открытой и латентной. Примером открытой агрессии выступает случай, произошедший днем 28 сентября 1883 года в селе Кладбищи Алатырского уезда. Крестьянка Варвара Коблова пыталась кушаком удавить спящего мужа Моисея. Женщина давила так, что от напряжения петли из ушей у него побежала кровь. Варвара объяснила попытку расправы предыдущим её избиением [10, с. 4]. Примером же скрытой агрессии может служить преступление в с. Кивать Карсунского уезда: «Крестьянка Марфа Чванова, 28 лет, имея заранее обдуманное намерение отравить своего мужа, для чего подготовила мышьяк, и 30 января 1871 г. посыпала им калач, и дала его съесть своему мужу Чванову
Степану, от чего последний в ночь на другой день умер» [6].
Первый пример неудавшегося преступления стоит квалифицировать как покушение на убийство не только с точки зрения сегодняшней юридической практики, но и уголовного законодательства пореформенного периода, что отражено в ведомостях о происшествиях. В Карсунском уезде близь с. Канабеевка 29 декабря 1884 года в проезжавшего в этот день крестьянина Михаила Никонова последовал от неизвестно кого выстрел из ружья, заряженного дробью, причем одна дробина попала в голову, а весь заряд в сани. Никонов заявил в покушении на убийство знавшего его своего работника, крестьянина Василия Матынькина, так как он давал Никонову угрозы убийства [11].
Помимо наиболее опасного вида насильственных преступлений, криминальные хроники зафиксировали деяния, направленные против здоровья человека. Такое преступление, квалифицируемое как покушение на отравление, произошло в «Сызранском уезде с. Рязанове 29 января 1884 г. семья Алексея Таннова, состоящая из 18 человек, пообедав, почувствовала признаки отравления… Подтвердил их подававший им медицинскую помощь местный фельдшер Топорин; подтвердившееся покушение на отравление заявлено на сноху Тан-нова, крестьянку Марью Таннову» [12].
Самой наибольшей степенью латентности обладали преступления против половой неприкосновенности. В большинстве случаев потерпевшая сторона не заявляла в полицию о произошедшем, и лишь ближайшие родственники обращались в органы правопорядка для расследования преступления. 18 апреля 1875 года крестьянка с. Суринского Татьяна Антонова Лазарева заявила, что крестьянин деревни Кобелевки Иван Селиверстов изнасиловал дочь Агафью 21 года [13].
Причиной, побудившей совершить вышеуказанное преступление, да и все остальные, с позиций психологической теории преступности является то, что любые поступки людей — это рвущиеся наружу бессознательные инстинкты или влечения [14]. И когда контролирующий волевой фактор не способен подавить природный инстинкт, возникает конфликт, выливающийся в преступление [15].
Среди насильственных преступлений особое место отводится хулиганству, которое характеризуется грубым нарушением общественного порядка и выражает неуважение к обществу, его членам. Хулиганство, как правило, содержит в себе элементы насилия, если не физического, то психологического [16]. Следует отметить довольно-таки высокую степень латентности данного вида преступлений в сельской местности. В источниках отражено не много случаев, фиксирующих нарушение общественного порядка. Причиной этому являются ментальные особенности крестьян, не считающих данного рода хулиганские действия преступлениями или правонарушениями, тем более если они были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Но все же хроники донесли до нас случаи данного преступления. «В июле 1875 г. крестьянин села Бекетовка Сергей Васильев, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился со своей женой и, придя в свой дом, в присутствии матери взял заряженное ружьё, сказав, что он сам себя убьет, сделал выстрел в угол избы, потом вновь зарядил и сделал выстрел в окно на улицу» [17]. Вследствие такого деструктивного поведения крестьянин Васильев нанес матери психическую травму и подверг опасности жизнь и здоровье сельчан.
Наиболее высокие показатели имеют виды имущественных преступлений, которые включают в себя две подгруппы посягательств на частную собственность. К первой подгруппе относятся преступления с завладением имущества путем хищения, ко второй — умышленное его уничтожение или повреждение.
По статистическим данным, в Симбирской губернии было зафиксировано преступлений и проступков против собственности частных лиц за 1867 год 2 249 случаев, что составляет 48,5 % от всего числа преступлений. Краж — 730 случаев, конокрадства — 106 [1]. По наиболее распространенным преступлениям — кражам в европейской части России среднегодовое число осужденных за 1860—1867 гг. было 22 505, что составляло 30,4 % от общего числа осужденных [2].
Для краж, совершаемых в сельской местности, характерны две особенности. Первая — это прежде всего время совершения преступления, в большинстве случаев ночь. Вторая особенность — кража, совершаемая со взломом (петель дверей амбаров, проб и разбор потолочин). Предметом хищения чаще всего выступали продовольственные запасы злако- вых культур, лен, скот [18]. Реже совершались кражи денежных сумм [19], мёда [20], одежды крестьян, тканей [21] и уж совсем редкими случаями тайного хищения являлись рыболовные снасти [22] или лодки [23]. Примеров краж со взломом в хрониках происшествий достаточно: «в Симбирском уезде с. Богородской Репьёвки в ночь на 25 декабря 1884 г. из ветряной мельницы крестьянина Ульяна Голова через взлом замка украдено разной муки на 16 руб. 30 коп.» [24].
В гендерном отношении преступивших закон и совершивших кражу мужчин было намного больше, чем женщин. Преступления последних немногим отличались методами и средствами, применяемыми представителями сильного пола. К примеру, «10 февраля 1875 г. у крестьянина деревни Бектяшки Лаврентия Емельянова из амбара через взлом замка выкрадено 2 пуда пшеницы стоимостью 1 руб. 20 коп., в чем уличается крестьянка Варвара Трегубова» [25]. В ходе произведенного дознания Трегубова не созналась, объяснив тем, что пшеницу она взяла от жены Емельяновой Арины Никифоровой, но доказательств никаких не предоставила и сама Емельянова сказанное не подтвердила [26].
Были случаи совершения краж и подростками. 14 мая 1875 года у священника деревни Федькино Ивана Иванова Ахматова из чулана через отодранные потолочины выкрадено 72 руб. 20 коп., в чем сознался сын причетника 14-летний Павел Григорьев Сахаров, деньги передал крестьянину той же деревни Петру Иванову Улейкину, по научению которого и совершил кражу [27]. Но в данном случае подросток ещё не понимал противоправности своего деяния вследствие низкого образовательного уровня и непонимания происходивших сути вещей.
В чем же заключаются причины, толкнувшие людей на совершение противоправных действий? На наш взгляд, в подавляющем большинстве случаев — это неудовлетворенные витальные потребности человека в пище, одежде и т. д. Трудности социальноэкономического положения представителей крестьянского сословия вынуждали идти их на преступления в борьбе за свое существование. Периодическое совершение хищений приводило к профессионализации преступников, и кражи становились если не основным, то достаточным источником дохода.
Значительная доля имущественных преступлений относилась к конокрадству, одному из самых распространенных преступлений дореволюционной России, особенно в сельской округе. Только у крестьян с. Новодевечье в 1870 году было украдено 25 лошадей [28]. Никакие строения и замки не могли обезопасить от конокрадства, кражи совершались как с личных подворий, так и с постоялых дворов. В ночь на 25 апреля 1875 года у священника с. Михайловки со двора неизвестно кем были украдены через взлом замка 3 лошади, стоящие 220 руб. [29] У крестьянина же с. Коржев-ки Михаила Петрова Шепелева в с. Ардатове Алатырского уезда с места постоялого двора в ночь на 19 ноября 1881 года неизвестно кем была украдена принадлежавшая ему лошадь стоимостью 80 руб. [30]
Ещё одним видом имущественных преступлений является мошенничество, которое квалифицировалось в пореформенный период как воровство-мошенничество. Преступлений данного вида в 7,5 раз совершалось меньше, чем случаев краж. Среднегодовое число осужденных в России не превышало чуть более 1 % от общего числа осужденных [2]. Примеры мошенничества весьма многообразны, приведем пример одного из них. 1 марта 1884 года близ с. Пилюгина Симбирского уезда Михаил Федосеев обратился к унтер-офицеру Степану Абрамову с просьбой помочь ему найти взаймы денег 120 рублей. Последний пообещал помочь, взять нужную сумму у симбирского мещанина Николая Иванова, и велел Федосееву написать вексель и прибыть в условленное место. «Написав вексель, Федосеев пошел на указанное место, где и нашел Абрамова и другого неизвестного человека, которые стали требовать от него вексель. Когда Федосеев достал бумажник с 40 руб. денег и хотел отдать вексель, то неизвестный человек вырвал у него вексель и деньги, сунув ему пачку привезенных денег… Но по осмотру Федосеевым полученной от неизвестного человека пачки оказалось, что она сделана из писчей бумаги с наклейной с обеих сторон старых рублевых кредитных билетов» [31].
Согласно Уложению о наказаниях к воровству-мошенничеству относилась подделка кредитных билетов — фальшивомонетчество, которое фиксировалось в деревнях и селах в неединичных случаях. К примеру, 12 января
1871 года в с. Белый Ключ Симбирского уезда за перевод при помощи стекла и попытку сбыта изготовленного фальшивого кредитного билета трёхрублевого достоинства задержаны крестьяне Петр Мазанов, 18 лет, и Захар Хижев, 19 лет. Преступившие закон молодые люди сознались и объяснили, что фальшивомонетчеством занялись из озорства и по глупости [32]. К следующей подгруппе преступлений — уничтожению имущества следует отнести такое противоправное действие, как умышленный поджог. Причинами были месть за нанесенные обиды или зависть. Так, в Карсунском уезде с. Коржевки 25 декабря 1884 года сгорел стог, принадлежавший Степану Коршунову, стоимостью 15 руб. В данном поджоге сознался Иван Бочкарев [33]. В иных случаях объектом «истребления чужого имущества» была домашняя скотина. «В ночь на 20 ноября 1884 г. в деревне Мордовские Бектяшки Сенгилеевско-го уезда у крестьянина Тимофея Пьянзина пали корова и овцы, бывшие здоровыми… выяснилось, что животные отравлены, в чем и заявил подозрение на Елизавету Васильеву, которая высказывала Пьянову угрозы» [34].
В очень редких случаях хищение частного имущества могло сопровождаться и его уничтожением. Так, к примеру, в Верхних Коках Сенгилеевского уезда 7 мая 1866 года «у крестьянина Ильи Евдокимова на пчельник, состоящем в лесной даче в 5-ти верстах от села, из 30 ульев с пчелами выломали мед, 3 улья разбили и пчелы померли, причинено убытка до 115 рублей» [35].
В последней группе исследуемых нами корыстно-насильственных преступлений выделяются грабеж и разбой. К первому мы можем отнести события, произошедшие в питейном доме деревни Старотимошкиной, которая содержалась карсунским купцом Власовым. Так, 18 апреля 1875 года в 8 часов вечера татарами деревни Кадер Шабаевым, Ха-сяновым, Хамировым и Шакуром было проведено буйство, а по выходе из питейного заведения, близ фабрики Акчурина, была отнята ими у крестьянина Звенигородского уезда Ивана Васильева кошель с деньгами на сумму 19 руб. 30 коп. В содеянном отнятии денег татары не сознались, объясняя тем, что были пьяны и ничего не помнят [36]. Ко второму — событие в Буинском уезде в деревне Старых Какерлях, где 11 декабря 1884 года было со- вершено разбойное нападение. «Крестьянин Акнетдин Фатретдинов и запасной рядовой Кусмаев нанесли побои крестьянину Дакаеву и силой отняли у него денег 1.60 руб.» [37].
Причины совершения грабежей и разбойных нападений аналогичны преступлениям имущественного характера в части вопросов хищений собственности. При этом в нередких инцидентах катализатором противоправного поведения служило алкогольное опьянение. В результате чего подвыпившие лица совершали подобные преступления.
В целом структура уголовной преступности отражает существовавшие социальноэкономические реалии в сельской местности пореформенного периода XIX века. Невозможность удовлетворить витальные потребности законными средствами приводила в конечном итоге к совершению всех видов преступлений. Патриархальные представления крестьянства с необходимостью полного подчинения жены мужу, а детей родителям включали необходимость применения насильственных действий как одного из методов воспитания и поддержания авторитета, что и служило основными причинами бытового насилия в семейных отношениях. Отсюда и вытекает количественное преобладание мужчин в совершенных преступлениях. Среди общего числа преступлений преобладали имущественные — кражи, конокрадство. Меньше совершалось насильственных противоправных действий, и самые низкие показатели имеют корыстно-насильственные преступления.
-
1. Симбирская летопись — справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии на 1869 год. Симбирск: Изд-во Симбирского губернского правления, 1869. 36 с.
-
2. Остроумов С. С. Преступность и её причины в дореволюционной России. М.: Изд-во Московского ун-та, 1980.
-
3. ГАУО. Ф. 76. Оп 1. Д. 57. Л. 192.
-
4. Там же. Л. 193.
-
5. Гернет М. Н. Социальные факторы преступности. М.: Университетская тип., 1905. 134 с.
-
6. Лагунов Б. К истории института присяжных заседателей в Симбирской губернии. Режим доступа: http://uloblsud.ru/index.php?option=
com_ content&task=view&id=1227&Itemid=61
-
7. ГАУО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 29. Л. 1.
-
8. Там же. Л. 4.
-
9. ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 67.
-
10. Молодежная газета. 2010. 1 окт.
-
11. ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 112.
-
12. Там же. Л. 158.
-
13. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 57. Л. 205.
-
14. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. 428 с.
-
15. Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. М.: НОРМА, 2001. 331 с.
-
16. Овчинский С. С. Преступное насилие. Преступность в городах. М., 2007.
-
17. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 57. Л. 64.
-
18. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 57. Л. 70.
-
19. Там же. Л. 16.
-
20. Там же. Л. 65.
-
21. Там же. Л. 17.
-
22. Там же. Л. 94.
-
23. Там же. Л. 19.
-
24. ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 32.
-
25. ГАУО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 65. Л. 108.
-
26. Там же. Л. 109.
-
27. Там же. Л. 2.
-
28. ГАУО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 218. Л. 1.
-
29. ГАУО. Ф. 76. Оп 1. Д. 57. Л. 193.
-
30. ГАУО. Ф. 244. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
-
31. ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 227—228.
-
32. Молодежная газета. 2011. 14 января. С. 4.
-
33. ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 27.
-
34. Там же. Л. 45.
-
35. ГАУО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 65. Л. 103.
-
36. ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 57. Л. 185.
-
37. ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 70.
Список литературы Особенности сельской преступности в пореформенный период XIX века (по материалам Симбирской губернии)
- Симбирская летопись -справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии на 1869 год. Симбирск: Изд-во Симбирского губернского правления, 1869. 36 с.
- Остроумов С. С. Преступность и её причины в дореволюционной России. М.: Изд-во Московского ун-та, 1980.
- ГАУО. Ф. 76. Оп 1. Д. 57. Л. 192.
- Гернет М. Н. Социальные факторы преступности. М.: Университетская тип., 1905. 134 с.
- Лагунов Б. К истории института присяжных заседателей в Симбирской губернии. Режим доступа: http://uloblsud.ru/index.php?option= com_ content&task=view&id=1227&Itemid=61
- ГАУО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 29. Л. 1.
- ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 67.
- Молодежная газета. 2010. 1 окт.
- ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 112.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 57. Л. 205.
- Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. 428 с.
- Криминология: учебник для вузов/под общ. ред. А. И. Долговой. М.: НОРМА, 2001. 331 с.
- Овчинский С. С. Преступное насилие. Преступность в городах. М., 2007.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 57. Л. 64.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 57. Л. 70.
- ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 32.
- ГАУО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 65. Л. 108
- ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 227-228.
- Молодежная газета. 2011. 14 января. С. 4.
- ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 27.
- ГАУО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 65. Л. 103.
- ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 57. Л. 185.
- ГАУО. Ф. 675. Оп. 1. Д. 14. Л. 70