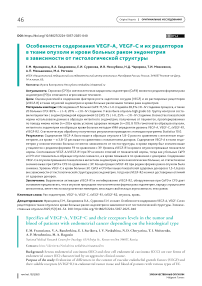Особенности содержания VEGF-A, VEGF-С и их рецепторов в ткани опухоли и крови больных раком эндометрия в зависимости от гистологической структуры
Автор: Франциянц Е.М., Бандовкина В.А., Сурикова Е.И., Нескубина И.В., Черярина Н.Д., Моисеенко Т.И., Меньшенина А.П., Рогозин М.А.
Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors
Рубрика: Оригинальные исследования
Статья в выпуске: 1 т.15, 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность: Серозная (СРЭ) и светлоклеточная карциномы эндометрия (СвРЭ) являются редкими формами рака эндометрия (РЭ) и отличаются агрессивным течением.Цель: Оценка различий в содержании факторов роста эндотелия сосудов (VEGF) и их растворимых рецепторов (sVEGF-R) в ткани опухолей эндометрия и крови больных различными типами рака эндометрия.Материалы и методы: Обследована 21 больная СвРЭ: 71,5 % с I-II стадией и 28,5 % с III-IV стадиями процесса, а также 20 больных СРЭ: 80 % - с I-II, 20 % - с III-IV стадиями. У всех была опухоль high grade G3. Группу контроля составили пациентки c эндометриоидной карциномой G3 (ЭР): 75 с I-II, 25 % - с III-IV стадиями. В качестве показателей нормы использовали данные в образцах интактного эндометрия, полученные от пациенток, прооперированных по поводу миомы матки (n = 20) и кровь условно здоровых женщин (n = 20). В 10 % гомогенатах образцов опухоли, интактного эндометрия и в образцах крови больных методом ИФА определяли уровень VEGF-A, VEGF-C, sVEGF-R1, sVEGF-R2. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы Statistica 10.0.Результаты: Содержание VEGF-A было выше в образцах опухоли в 1,8-2 раза по сравнению с интактным эндометрием, а в крови - в 3,8-12 раз выше по сравнению с показателями доноров. Содержание VEGF-A в ткани эндометрия у онкологических больных не имело зависимости от гистоструктуры, в крови маркер был значимо выше у пациенток с редкими формами РЭ по сравнению с ЭР. Уровень sVEGF-R1 в крови и опухоли превышал показатели нормы. Соотношение VEGF-A / sVEGF-R1 при ЭР не имело отличий от показателей нормы, тогда как у больных СвРЭ и СРЭ этот показатель в образцах опухоли снижался, а в крови повышался по сравнению с донорами. Содержание VEGF-C в опухоли превышало показатели в интактном эндометрии у всех онкологических больных, но статистически значимо выше при СвРЭ и СРЭ по сравнению с ЭР. Концентрация sVEGF-R2 при редких формах рака в опухоли была снижена. Уровень VEGF-С в крови больных ЭР, СвРЭ и СРЭ был выше показателей здоровых доноров в 1,5-1,6 раза вне зависимости от гистологической структуры рака эндометрия, тогда как sVEGF-R2 не имел достоверных отличий от здоровых доноров.Заключение: Выраженная активация sVEGF-R1 и ингибирование sVEGF-R2, обнаруженные при СвРЭ и СРЭ дает основание предполагать, что в опухоли при редких гистологических формах рака эндометрия, наряду с процессами ангиогенеза, имеет место васкулогенная мимикрия, вносящая свой вклад в агрессивность этих раков.
Рак эндометрия, опухоль, кровь
Короткий адрес: https://sciup.org/140310083
IDR: 140310083 | DOI: 10.18027/2224-5057-2025-040
Текст научной статьи Особенности содержания VEGF-A, VEGF-С и их рецепторов в ткани опухоли и крови больных раком эндометрия в зависимости от гистологической структуры
Рак эндометрия является наиболее распространённым злокачественным заболеванием женской репродуктивной системы [1]. Помимо установленных прогностических факторов при раке эндометрия, таких как гистологическая степень злокачественности, стадия, глубина инвазии в миометрий и метастазы в тазовых лимфатических узлах, было обнаружено, что ангиогенез также связан с классификацией и прогнозом [2].
Рост опухоли и метастазирование зависят от ангиогенеза, который играет ключевую роль в процессе развития, прогрессирования и регрессии опухоли [3]. Ангиогенез не только обеспечивает опухолевые клетки питательными веществами и кислородом, но и служит каналом, по которому клетки могут выводить отходы жизнедеятельности. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF-A) является наиболее значимым проангиогенным фактором в опухолях, а транскрипция VEGF-A может активироваться гипоксией [4]. Существует множество доказательств того, что доступность кислорода играет решающую роль в регулировании ангиогенеза опухолей. Например, гипоксическая внутри-опухолевая среда может способствовать образованию кровеносных сосудов, повышая уровень белка VEGF-A [5]. В условиях гипоксии индуцируемый гипоксией фактор-1α
(HIF-1 α) перемещается в ядро, где образует гетеродимер с HIF-1β и связывается с чувствительными к гипоксии элементами различных генов, включая VEGF-A.
Несколько сигнальных путей способствуют такой активности в качестве стимуляторов, действующих синергически с VEGF и рецепторами фактора роста эндотелия сосудов (sVEGF-R). VEGF — это мощный агент, стимулирующий ангиогенез, который действует как специфический митоген для эндотелиальных клеток сосудов через специфические рецепторы на поверхности клеток. И VEGF, и его рецептор экспрессируются на высоком уровне в метастатических карциномах толстой кишки человека и в эндотелиальных клетках, ассоциированных с опухолью, а выработка этих двух белков напрямую коррелирует со степенью васкуляризации опухоли [6]. Согласно распространённой гипотезе, клетки, образующие новую выстилку кровеносных сосудов, которые реагируют на опухолевые цитокины, относятся к примитивным бластам как гемопоэтического, так и эндотелиального происхождения. VEGF-A — это специфический для эндотелиальных клеток фактор роста, который регулирует ангиогенез как в нормальных, так и в патологических условиях [7]. Среди ангиогенных факторов роста VEGF-A играет ключевую роль в пролиферации эндотелиальных клеток и повышенной проницаемости кровеносных сосудов, связанных с опухолью [8].
Хотя VEGF в основном воздействует на эндотелиальные клетки, было показано, что этот фактор оказывает множественное воздействие на другие типы клеток. Существует несколько родственных генов, включая VEGF-B, VEGF-C и фактор роста плаценты (PlGF), однако наибольшее внимание уделяется VEGF-A из-за его ключевой роли в регуляции ангиогенеза во время гомеостаза и при заболеваниях. VEGF необходим для физиологического сосудистого гомеостаза в различных клетках и тканях, также было доказано, что он играет важную роль в молекулярном патогенезе роста и метастазирования опухолей. VEGF-C — это белок, высокая экспрессия которого указывает на повышенную проницаемость сосудов и усиление неоваскуляризации и лимфоангиогенеза [9]. С одной стороны, он может вызывать неоваскуляризацию вокруг раковых клеток, разрушая эндотелиальные клетки, с другой стороны, VEGF-C может способствовать экстравазации фибриногена, повышать проницаемость сосудов и способствовать образованию кровеносных сосудов вокруг раковых клеток, тем самым усиливая их способность к инвазии [10].
В настоящее время отсутствуют данные о роли факторов неоангио- и лимфангиогенеза в агрессивном течении разных форм рака эндометрия (РЭ). Сравнительные исследования исходных характеристик опухолей и связанных с ними различий в прогнозе течения эндометриоидной аденокарциномы и редких неэндометриоидных патологических подтипов РЭ немногочисленны. В частности, Zhang G. и соавторами (2023) было показано ухудшение показателей общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования при серозной и светлоклеточной карциномах РЭ, в отличие от смешанного подтипа, что свидетельствует об их негативном влиянии на прогноз [11]. Задачей исследователей является оценка роли ангиогенных факторов в патогенезе различных гистотипов опухолей эндометрия.
Целью исследования явилась оценка различий в содержании факторов роста эндотелия сосудов и их растворимых рецепторов в ткани опухолей эндометрия и крови больных различными типами рака эндометрия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включена 41 пациентка с редкими формами РЭ: светлоклеточного (СвРЭ, n = 21) и серозного рака (СРЭ, n = 20); все проходили лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону. Среди больных СвРЭ 42,9% (n = 9) имели опухоли I стадии, 28,6% (n = 6) — II стадии. Среди больных СРЭ 55% (n = 11) имели I стадию, 25% (n = 5) — II стадию. Распространенный опухолевый процесс (III и IV стадии) отмечен при СРЭ в 20% (n = 4), при СвРЭ в 28,5 % (n = 6). У всех больных степень дифференцировки соответствовала G3. Больные c эндометриоидной карциномой эндометрия (high grade — G3) составили группу контроля. Среди них 60% (n = 12) имели опухоли I стадии, 15% (n = 3) — II стадии, остальные 25% больных (n = 5) имели распространенный опухолевый процесс (III и IV стадии). В качестве показателей нормы использовали данные в образцах интактного эндометрия, полученные от пациенток, прооперированных по поводу миомы матки (n = 20), и кровь условно здоровых женщин (n = 20). Средний возраст больных РЭ составил 57 лет, с миомой матки — 55 лет. Возраст менархе во всех группах не отличался. Среднее количество родов и абортов, а также срок наступления менопаузы у больных РЭ и миомой матки существенно не отличались. При анализе коморбидной гинекологической патологии хронический метроэндометрит выявлен у 40% больных миомой матки, у больных редкими формами РЭ метроэндометрит встречался менее чем в 10% случаев. Сопутствующий аденомиоз отмечен в 85% случаев при миоме матки, и лишь в 14–15% при РЭ. Ожирением (ИМТ > 30) страдали 14% больных СвРЭ и 20% больных СРЭ, у больных миомой матки сопутствующее ожирение встречалось в 50% случаев. В 10% гомогенатах образцов опухоли матки и интактного эндометрия, а также в образцах крови с использованием стандартных ИФА наборов определяли уровень VEGF-A, VEGF-C, sVEGF-R1, sVEGF-R2 (Cusabio, Китай). Проводили расчет коэффициентов соотношения показателей VEGF к растворимым рецепторам. Все пациентки подписали добровольное информированное согласие. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы Statistica 10.0. Все результаты были проверены на соответствие закону о нормальном распределении (критерий Шапиро–Уилка). Данные таблиц представлены в виде M ± m, где M — среднее арифметическое значение, m — стандартная ошибка среднего. Сравнение количественных данных в независимых выборках проводили с использованием критерия Краскела–Уоллиса, дальнейшие апостериорные сравнения — с использованием критерия Манна–Уитни с корректировкой уровня значимости.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Показатели факторов роста и их рецепторов в образцах интактного и опухолевого эндометрия, а также в крови больных представлены в таблицах 1 и 2.
Найдено, что уровень VEGF-A в ткани эндометриоидного рака (ЭР), светлоклеточного (СвРЭ) и серозного рака (СРЭ) был выше, чем в ткани интактного эндометрия (ИЭ) в 1,8 раза, 2,0 раза и 1,9 раза соответственно, а уровень sVEGF-R1-в 1,4 раза, 6,7 раза и 4,3 раза соответственно. При этом, уровень свободного VEGF-A, определяемого по соотношению VEGF-A/sVEGF-R1, в ткани ЭР не имел достоверных отличий от ткани ИЭ, тогда как в ткани СвРЭ и СРЭ был снижен в 3,2 раза и 2,3 раза.
Не найдено достоверных отличий в уровне VEGF-A между показателями в ткани опухоли рака эндометрия различной гистологической структуры, в то время как уровень sVEGF-R1 имел выраженные отличия. Так, наименьшее количество определялось в ткани ЭР; в ткани СвРЭ и СРЭ егоуровень был выше показателя при ЭР в 4,8 раза и 3 раза соответственно. Показатель VEGF-A/sVEGF-R1 в ткани ЭР был выше, чем в ткани СвРЭ и СРЭ в 3,9 раза и 2,8 раза.
При сравнении ткани СвРЭ и СРЭ было отмечена только разница в уровне VEGF-R1-в СвРЭ выше в 1,6 раза и в уровне VEGF-A/sVEGF-R1-в СвРЭ ниже в 1,4 раза.
Изучение уровня VEGF-A в крови больных ЭР, СвРЭ и СРЭ показало повышение его относительно такового у здоровых доноров в 3,8 раза, 6,5 раза и 12 раз соответственно. sVEGF-R1 в крови больных ЭР был повышен в 4,4 раза, а при СвРЭ и СРЭ в среднем в 1,6 раза по сравнению с нормой. Уровень VEGF-A/sVEGF-R1 в крови больных ЭР не имел достоверных отличий от показателей доноров, а при СвРЭ и СРЭ был выше в 3,6 раза и 7,5 раза.
При сравнении уровня VEGF-A в крови больных ЭР, СвРЭ и СРЭ оказалось, что он был выше при СвРЭ и СРЭ относительно значений при ЭР в 1,7 раза и 3,1 раза соответственно, а уровень sVEGF-R1-ниже в 2,6 раза и 2,8 раза. Поэтому показатель VEGF-A/sVEGF-R1 в крови больных
СвРЭ и СРЭ был выше значений при ЭР в 4,2 раза и 8,7 раза соответственно.
Далее мы изучили уровень VEGF-С и sVEGF-R2, результаты представлены в таблице 2.
Было установлено, что уровень VEGF-С в ткани эндометриоидного рака (ЭР), светлоклеточного (СвРЭ) и серозного рака (СРЭ) был выше, чем в ткани интактного эндометрия (ИЭ) в 1,8 раза, 3,3 раза и 3,1 раза соответственно. Относительно ЭР уровень VEGF-С в СвРЭ и СРЭ был выше в среднем в 1,7 раза. Уровень sVEGF-R2 в ткани ЭР не имел достоверных отличий от показателя в интактном эндометрии, а в ткани СвРЭ и СРЭ был снижен в 1,7 раза и 1,5 раза соответственно, как относительно интактной ткани, так и ткани ЭР.
Показатель VEGF-С/sVEGF-R2 в ткани ЭР, СвРЭ и СРЭ был повышен относительно интактного эндометрия в 1,9 раза, 6 раз и 4 раза соответственно, но в ткани ЭР этот показатель был ниже, чем в ткани СвРЭ и СРЭ в 3,2 раза и 2,2 раза.
Изучение уровня VEGF-С в крови больных ЭР, СвРЭ и СРЭ показало повышение его относительно показателей здоровых доноров в 1,5–1,6 раза вне зависимости от
Таблица 1. Содержание VEGF-A, sVEGF-R1 и их соотношение в ткани и крови больных раком эндометрия
Table 1. The content of VEGF-A, sVEGF-R1 and their ratio in the tissue and blood of patients with endometrial cancer
|
Образцы |
VEGF-A |
sVEGF-R1 |
VEGF-A/ sVEGF-R1 |
|
|
Миома |
Интакный |
165,6 ± 18,9 |
9,4 ± 0,83 |
18,5 ± 2,1 |
|
матки |
эндометрий (пг/г тк.) |
|||
|
Здоровые |
Кровь |
35,2 ± 3,6 |
0,7 ± 0,05 |
52,6 ± 6,6 |
|
доноры |
(пг/мл) |
|||
|
Эндо- |
Опухоль |
292,3 ± 32,2 |
13,3 ± 1,4 |
22,5 ± 2,0 |
|
метриоид- |
(пг/г тк.) |
p 1 = 0,0032 |
p 1 = 0,0242 |
|
|
ный рак G3 |
Кровь |
134,5 ± 11,6 |
3,1 ± 0,33 |
45,4 ± 3,0 |
|
(пг/мл) |
p 1 = 0,0000 |
p 1 = 0,0000 |
||
|
Светлокле- |
Опухоль |
336,2 ± 31,9 |
63,3 ± 6,9 |
5,7 ± 0,65 |
|
точный рак |
(пг/г тк.) |
p 1 = 0,0002 |
p 1 = 0,0000 |
p 1 = 0,0000 |
|
эндометрия |
p 2 = 0,0000 |
p 2 = 0,0000 |
||
|
Кровь |
228,3 ± 28,7 |
1,2 ± 0,14 |
190,1 ± 8,0 |
|
|
(пг/мл) |
p 1 = 0,0000 |
p 1 = 0,0037 |
p 1 = 0,0000 |
|
|
p 2 = 0,0026 |
p 2 = 0,0001 |
p 2 = 0,0000 |
||
|
Серозный |
Опухоль |
317,0 ± 36,6 |
40,5 ± 5,1 |
7,9 ± 0,17 |
|
рак эндо- |
(пг/г тк.) |
p 1 = 0,0017 |
p 1 = 0,0000 |
p 1 = 0,0001 |
|
метрия G3 |
p 2 = 0,0000 |
p 2 = 0,0000 |
||
|
p 3 = 0,0159 |
p 3 = 0,0036 |
|||
|
Кровь |
423,6 ± 36,9 |
1,1 ± 0,12 |
394,8 ± 16,1 |
|
|
(пг/мл) |
p 1 = 0,0000 |
p 1 = 0,0072 |
p 1 = 0,0000 |
|
|
p 2 = 0,0000 |
p 2 = 0,0000 |
p 2 = 0,0000 |
||
|
p 3 = 0,0005 |
p 3 = 0,0000 |
|||
Таблица 2. Содержание VEGF-С, sVEGF-R2 и их соотношение в ткани и крови больных раком эндометрия Table 2. The levels of VEGF-C, sVEGF-R2 and their ratio in the tissue and blood of patients with endometrial cancer
p 2 — статистически значимо по отношению к показателю при эндометриоидном раке эндометрия G3;
p3 — статистически значимо по отношению к показателю при светлоклеточном раке эндометрия p1 — статистически значимо по отношению к показателю в интактной ткани/ у здоровых доноров;
p 2 — статистически значимо по отношению к показателю при эндометриоидном раке эндометрия G3;
p 3 — статистически значимо по отношению к показателю при светлоклеточном раке эндометрия.
гистологической структуры рака эндометрия. Уровень sVEGF-R2 в крови всех обследованных больных не имел достоверных отличий от контрольного показателя. Соотношение VEGF-С/sVEGF-R2 в крови больных ЭР и СвРЭ было выше в 1,6 раза и 2 раза соответственно по сравнению с показателями здоровых доноров, только у больных СРЭ данный коэффициент не имел значимых отличий.
ОБСУЖДЕНИЕ
Открытие VEGF произвело революцию в понимании ва-скулогенеза и ангиогенеза в процессе развития и физиологического гомеостаза. За короткий промежуток в два десятилетия понимание молекулярных механизмов, с помощью которых VEGF координирует нейрососудистый гомеостаз, стало более глубоким. Также стала очевидной центральная роль VEGF в патогенезе различных видов рака. Изучение молекулярной регуляции VEGF и разработка новых терапевтических методов, нацеленных на VEGF напрямую или косвенно, показывает, как фундаментальные исследования могут способствовать инновациям и внедрению результатов в практику. Считается, что VEGF является самым сильным стимулятором онкологического ангиогенеза [8].
VEGF, выделяемый опухолевыми клетками и окружающей их стромой, стимулирует пролиферацию и выживаемость эндотелиальных клеток, что приводит к образованию новых кровеносных сосудов, которые могут быть структурно аномальными и проницаемыми [12]. мРНК VEGF сверхэкспрессируется в большинстве опухолей человека и коррелирует с инвазивностью, плотностью сосудов, метастазированием, рецидивами и прогнозом. Было разработано несколько стратегий ингибирования сигнального пути VEGF-sVEGFR для лечения рака [13].
Из всех проанализированных белков в цервикальновагинальных смывах [14] отметили VEGF-A, как единственный, значительно коррелировавший со всеми неблагоприятными характеристиками опухоли, которые оценивали: размер опухоли, степень злокачественности, инвазия в миометрий и статус микросателлитной нестабильности — MMR. Авторы также показали, что уровень VEGF-A значительно выше в опухолях EC с MMRd по сравнению с опухолями EC с MMRp. Интересно, что некоторые исследования колоректального рака также показали, что уровень VEGF-A в опухолях с MMRd т. е дефицитом репарации мишеней значительно выше, чем в опухолях с микро-сателлитной стабильностью [3].
Имеются также данные о значении VEGF-C при раке эндометрия. Так, Cai S. и соавторы [15] показали, что частота положительной экспрессии VEGF-C при раке эндометрия составляет 64,47%, что коррелирует со степенью дифференцировки опухоли, стадией по системе FIGO, метастазами в лимфатических узлах и глубиной инвазии в миометрий. Эти данные в целом согласуются с более поздними результатами [16]. Причиной может быть то, что чрезмерная экспрессия VEGF-C способна усиливать стимуляцию ангиогенеза опухоли и изменять проницаемость кровеносных сосудов.
Авторы показали, что частота положительных результатов анализа на VEGF-C у пациентов с разными стадиями рака эндометрия значительно различается. Она выше при метастазировании в лимфатические узлы по сравнению с отсутствием метастазирования, значительно выше при глубокой инфильтрации слоя миометрия по сравнению с поверхностной инфильтрацией слоя миометрия и значительно выше при интерстициальной инфильтрации по сравнению с отсутствием интерстициальной инфильтрации. Это также говорит о том, что положительная экспрессия VEGF-C тесно связана с клинической стадией рака эндометрия и клиникопатологическими особенностями, такими как метастазирование в лимфатические узлы, глубина инвазии в миометрий и интерстициальная инвазия. Кроме того, измерение уровня VEGF-C в сочетании с визуализацией может повысить точность определения стадии рака эндометрия.
Однако мы не встретили работ, в которых указанные факторы роста изучались в ткани серозного и светлоклеточного рака эндометрия. С этих позиций наше исследование представляет интерес. Полученные нами результаты показывают повышенный относительно ткани интактного эндометрия уровень VEGF-A в ткани аденокарциномы эндометрия вне зависимости от гистологических особенностей: не было разницы в содержании эндотелиального фактора роста в ткани опухоли при ЭР, СвРЭ и СРЭ. Это подтверждают имеющиеся данные литературы. Вместе с тем обнаружено, что уровень sVEGF-R1 в ткани опухоли СвРЭ и СРЭ был выше показателя при РЭ.
Уровень VEGF-С был повышен во всех изученных образцах рака эндометрия относительно интактной ткани эндометрия, однако при СвРЭ и СРЭ его содержание было выше, чем при ЭР. Уровень sVEGF-R2, в отличие от sVEGF-R1, был снижен в ткани СвРЭ и СРЭ как относительно интактной ткани, так и относительно ЭР, при котором уровень sVEGF-R2 не имел достоверных отличий от контроля.
Интересно, когда кровь отражает метаболическое состояние опухоли. В крови всех больных нами найдено повышение уровня VEGF-A, особенно выраженное при СвРЭ и СРЭ — в 6,5 раза и 12 раз относительно здоровых доноров и в 1,7 раза и 3,1 раза относительно показателя при ЭР, что может быть использовано как дополнительный дифференциально-диагностический критерий. В то же время, изменение содержания в крови VEGF-С в зависимости от гистологии опухоли не было столь значимо.
Биологические функции VEGF-A реализуются посредством его связывания с двумя рецепторами тирозин-киназы, sVEGF-R1 и sVEGF-R2, которые экспрессируются в эндотелиальных клетках сосудов. VEGF-A играет важную роль в патогенезе опухолей, усиливая пролиферацию и подвижность эндотелиальных клеток [17]. Считается, что VEGF-A может способствовать развитию и прогрессированию опухоли, регулируя пролиферацию и подвижность опухолевых клеток аутокринным способом, а также индуцируя ангиогенез паракринным способом. Степень экспрессии VEGF у онкологических больных в ответ на химиотерапию является одним из маркеров эффективности проводимого лечения [18]. На сегодняшний день наиболее изученным процессом является активация рецептора 2 (sVEGF-R2) тирозинкиназы VEGF-A в эндотелиальных клетках, которая индуцирует ангиогенез и повышает проницаемость сосудов [19]. В отличие от него, рецептор 1 (sVEGF-R1) частично функционирует как «приманка» для VEGF-A, ослабляя эффекты, опосредованные sVEGF-R2/VEGF-A [20]. Было показано, что экспрессия sVEGF-R1 в некоторых линиях опухолевых клеток способствует их пролиферации в ответ на VEGF [21]. Однако сложности во взаимодействии лигандов и рецепторов и их дифференциальная экспрессия до сих пор препятствовали чёткому пониманию функций sVEGF-R1.
Вмести с тем, известно, что внутриклеточный домен трансмембранного рецептора VEGF-A — sVEGF-R1 обладает тирозинкиназной активностью и играет важную роль в физиологическом ангиогенезе. sVEGF-R1, экспрессируемый клетками гемопоэтического ряда, обладает функциями, не зависящими от ангиогенеза, при злокачественных заболеваниях, позволяя гемопоэтическим предшественникам раковых клеток создавать преметастатические клеточные кластеры и модулировать состав внеклеточного матрикса в метастатической нише, что приводит к усиленному росту опухоли и метастазированию [22].
Как показывают экспериментальные исследования, возможно моделирование факторов запуска неоангиогенеза в зависимости от различных факторов, включающих коморбидную патологию, при этом изменяется и агрессивность течения основного процесса [23]. Очевидно, полученные нами результаты дополняют характеристику серозного и светлоклеточного рака эндометрия, подчеркивая их известную агрессивность и способность к прогрессированию.
В качестве одного из важных способов кровоснабжения в микроокружении опухоли является васкулогенная мимикрия (ВМ). ВМ определяется как канал для проведения жидкости, встроенный во внеклеточный матрикс и независимый от эндотелиальных клеток, сформированный опухолевыми клетками за счёт приобретения ими пластичности для имитации эндотелиальной функции [24,25].
ВМ была обнаружена во многих опухолях, в том числе и прогрессирующем раке эндометрия [26]. VEGFR1 гипер-экспрессируется в субпопуляции ABCB5-позитивных мела-нома-инициирующих клеток, связанных с васкулоген- ной мимикрией ВМ. Нокдаун sVEGF-R1 ингибировал ВМ в мышиной ксеномодели [27].
ВМ напоминает эмбриональный васкулогенез и наблюдается при агрессивных формах рака [28]. Примечательно, что активации ВМ при метастатическом раке может способствовать гипоксия посредством эпителиально-мезен химального перехода (EMT) и что VEGF, VE-кадгерин, ММП и циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) участвуют в ВМ [29]. Сигналь ные пути, регулирующие ВМ, активно изучаются, поскольку она усиливает метастазирование рака и повышает уровень смертности онкологических больных. Несмотря на наше понимание сигнальных молекул, участвующих в ВM, его сложность делает различные антиангиогенные методы лечения неэффективными. Например, введение беваци-зумаба вызывало гипоксию в первичных опухолях и аномально усиливали ВМ [30,31]. Этот неожиданный результат мог возникнуть из-за того, что ВМ является независимым и значительно отличающимся механизмом опухолевого ангиогенеза, в котором участвуют опухолевые клетки. Точная роль опухолевых клеток в ВМ изучается. Некоторые данные свидетельствуют о том, что агрессивные опухолевые клетки генетически возвращаются к фенотипу, напоминающему мультипотентные раковые стволовые клетки , и впоследствии способствуют росту опухолевых сосудов, образованию просветов и метастазированию [32]. Другие исследования показывают, что опухолевые клетки, участвующие в ВМ, претерпевают необратимые фенотипические изменения и образуют тонкий слой, похожий на эндотелий, для формирования сосудов [28,29].
Существует мнение, что самой важной характеристикой ВМ является ее подконтрольность сигнальному пути VEGF-А/sVEGF-R1 и отсутствие зависимости от тирозинкиназной активности sVEGF-R2 [33].
Таким образом, выраженная активация sVEGF-R1 и ингибирование sVEGF-R2, обнаруженные нами в ткани СвРЭ и СРЭ, дает основание предполагать, что в ткани опухоли при таких гистологических формах рака эндометрия, наряду с процессами ангиогенеза, имеет место васкулогенная мимикрия, также вносящая свой вклад в агрессивность этих раков. Что касается лимфангио-генеза, этот процесс был активирован во всех образцах опухоли относительно ткани интактного эндометрия и не был особенно значим для какой-либо гистологической формы рака эндометрия.