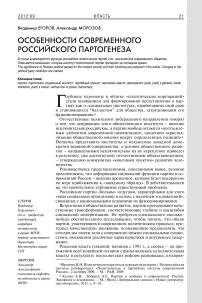Особенности современного российского партогенеза
Автор: Егоров Владимир Георгиевич, Морозов Александр Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 9, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются функции российских политических партий и их значение для современного общества. Отмечаются изменения, которые институт политической партии претерпел за последнее время.
Партия, партогенез, социальный институт, партийный транзит, вертикаль власти, демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/170166573
IDR: 170166573
Текст научной статьи Особенности современного российского партогенеза
Г лубокие перемены в облике «политических корпораций» стали основанием для формирования представления о партиях как о «социальных институтах, отработавших свой срок и становящихся “балластом” для общества, затрудняющим его функционирование»1.
Отечественные политологи либерального направления говорят о том, что депривация этого общественного института – явление исключительно российское, а партии вообще остаются «неотъемлемым элементом современной цивилизации», средством «кристаллизации общественного мнения вокруг определенных позиций»2. Попытка представить институты и механизмы западной демократии вершиной совершенства, а условия общественного развития – направленными исключительно на их укрепление приведет к результату, уже достигнутому отечественным обществоведением, – утверждению коммунизма «конечным пунктом» развития человечества.
Руководствуясь представлениями, описанными выше, резонно предположить, что деформация социальной функции партии в современной России – явление временное, которое будет искоренено по мере приближения к «западному образцу». В действительности же это значительное упрощение существующей проблемы.
Российские партии «больны» недугами, характерными для этого «вида социальных организмов» в целом, с наличием «осложнений», связанных с национальными условиями их функционирования.
Встроенные в общественное развитие, партии претерпевают качественные трансформации, соответствующие глубине и масштабам социальной модернизации. Не требуется специального сколько-нибудь обстоятельного исследования, чтобы понять, что облик партий, участвующих в современном политическом процессе, претерпел качественную эволюцию, позволяющую предполагать, что сегодня мы имеем дело с совершенно иными социальными сущностями, имеющими различные характеристики и внутреннее содержание.
Реальная власть (таковой, начиная с 1991 г., а скорее – на протяжении всей новейшей истории страны являлась исполнительная власть) в результате постсоветских реформ развивалась в направ- лении укрепления своей «вертикали», по мере нарастания которой все менее нуж-далась в институтах-посредниках в отно -шениях с обществом, в том числе в пар -тиях, формирующих «тесную связь между гражданами и государством»1.
С другой стороны, провозгласив целью социального транзита достижение нор -мативной демократии западного образца, политический режим нуждался в имита ции ее реализации, дополнительную осно вательность которой, помимо деклараций, мог придать атрибут традиционной запад ной демократии — политические партии.
Инкорпорированные в трансцендент -ную политическую реальность партии, обеспечивающие «выживание и самовос производство моноцентрического режима власти»2, приобретали или изначально имели характеристику, не вписывающуюся в устоявшиеся представления партологии. Возможность такой метаморфозы отме-чали многие исследователи. Например, Н.Н. Крадин пишет: «Многопартийная система, парламентаризм, разделение различных ветвей власти и т.п. — все это нередко вызывает обратные результаты, весьма нежелательные с точки зрения задач демократизации»3.
Реализовав удачный политический про -ект в виде «Единой России», заменив -шей коммунистическое парламентское большинство4, власть без особых рисков выстроила свои «правила игры» для поли тических партий. В обмен на фактическое обслуживание моноцентричной верти кали партии согласившиеся на эти «пра вила» могли рассчитывать на привилегию рекрутирования своих представителей в парламент.
Формирование «управляемой демо -кратии» исключало возможность участия в выстраиваемой политической системе многочисленных партий, отражавших узкокорпоративные интересы (и это при том, что учет интересов даже малочислен ных сообществ является в западной демо кратии показателем ее совершенства).
Учитывая ограниченность социаль -ных лифтов инкорпорации новых лиц во властные структуры, парламентский фракционный канал в условиях ликви дации мажоритарной избирательной системы приобрел реальную обществен ную ценность, нередко имеющую вполне материальный эквивалент.
Таким образом, поставленные перед выбором - оставаться выразителями инте ресов своих сторонников, составляющих часть общества (со всеми вытекающими последствиями - наличием определенных программ и идеологии, не имитационным, а фактическим оппонированием власти и т.д.), или использовать свой политический статус в качестве дивиденда, делегирован ного властью за «системность», современ ные политические партии России пред почли второй путь.
В условиях отсутствия в историче -ском опыте нашей страны феномена, определяемого специалистами понятием «гражданственность»5, реализуемого в т.ч. в партийной демократии, иной выбор пар тийной элиты было трудно предположить.
Встроенные во вла стную вертика ль парламентские партии утратили способ ность выражать интересы граждан. Как отмечают социологи, «для политиче ских партий, включая и оппозиционные, заинтересованность в них руководителей тех или иных органов власти является существенно более значимым политиче ским ресурсом, чем поддержка граждан, избирателей, независимых экспертов и специалистов»6. В этой связи вмеша-тельство в решение конкретных проблем граждан, бизнеса не входит в планы пар тий, т.к. это может вызвать недовольство чиновников и возможное «повреждение» их статуса в системе.
С учетом характеристики современного российского государства как государства корпорации, все чаще встречающейся в отечественной политологической лите ратуре7, и значительного сектора его
Таблица 1
Распределение вариантов ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, могло бы сыграть решающую роль в процедуре включения кандидата в партийный список?»*, %
|
СО © © В о. л и |
К В О О © Ри В В В В ы |
е № W |
К В О О © Ин 5 м В ч Ч © м в а в и |
© © ч 1© |
|
|
Членство в партии |
12 |
10 |
3 |
8 |
11 |
|
Присутствие в активе партии |
4 |
18 |
34 |
1 |
17 |
|
Работа во властных структурах |
38 |
3 |
4 |
17 |
— |
|
Материальная состоятельность |
34 |
38 |
47 |
38 |
31 |
|
Личные способности |
3 |
7 |
4 |
8 |
22 |
|
Приверженность программе партии |
1 |
17 |
3 |
6 |
7 |
|
Выдвижение местной партийной организацией |
6 |
3 |
2 |
3 |
8 |
|
Авторитет среди членов партии |
2 |
4 |
3 |
4 |
4 |
Текущий архив Института стран СНГ, 2011.
латентной управленческой сферы1 напра-шивается определение политических пар -тий2 сегодняшней России как механиз-мов инкорпорации во власть носителей «реальной социальной силы», конечно, обладающих, прежде всего, ее материаль-ной основой.
Интересны в этой связи результаты опроса 1 672 респондентов из 17 субъек-тов РФ, проведенного в 2011 г. Для опроса использовалась закрытая анкета с предпо лагаемыми вариантами ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, могло бы сыграть решающую роль в процедуре включения кандидата в партийный список (напри-мер, на выборах в Государственную Думу РФ)?» (см. табл. 1).
Безусловно, результаты опроса напря-мую не отражают реалии российской пар -тийной системы, а представляют собой общественную рефлексию институциона лизации партийного организма. Однако в контексте анализа социализации поли тических партий показатели социологи ческого исследования выглядят вполне репрезентативно.
В отличие от всех остальных характер ных признаков, необходимых для реали зации «партийного канала» продвижения во власть, не имеющих универсального тренда, «материальная состоятельность» занимает во всех партиях, независимо от формальной ориентации, ведущее место. Замечательно, что показатели «выдвиже-ние местной партийной организации» и «авторитет среди членов партии», проти воположные по степени влиятельности, также характеризуются во всех партиях приблизительно равными значениями.
Отмеченная доминанта партийной иерархии, связанная с материальным ресурсом, согласуется с многочислен ными сообщениями прессы, отражаю щими проникновение в партийные спи ски в т.ч. тех, кто обеспечил свое состо яние криминальной деятельностью3. «Государственноцентризм» партий (по П. Игнаци)4 обусловил их внутреннюю организацию, воспроизводящую облик персонифицированной российской госу дарственной власти. Опосредованность
Таблица 2
Распределение вариантов ответов на вопрос: «Какие характеристики Вы считаете главным отличительным признаком партий России?»*, %
|
о cd о н cd S |
к и о о Рч « ^ |
е |
d |
Ч и |
о о ю |
|
Программные и идеологические установки |
6 |
18 |
6 |
7 |
16 |
|
Личность руководителя |
82 |
53 |
79 |
72 |
59 |
|
Готовность отстаивать интересы определенной категории населения |
7 |
17 |
8 |
15 |
17 |
|
Реальное влияние на политическое настроение населения |
5 |
12 |
7 |
6 |
8 |
* Текущий архив Института стран СНГ, 2011.
партийной структуры государственным устройством отмечают многие полито-логи1.
В сознании россиян партии ассоциируются с конкретными политиками и не воспринимаются большинством как носители определенной идеологии или как средство представительства общественных интересов. Об этом свидетельствуют в т.ч. данные уже упомянутого опроса (см. табл. 2).
Данные, приведенные в табл. 2, выявляют несколько имплицитных трендов в настроении общества. Во-первых, безусловно, главным признаком российской партийной идентичности является личность ее руководителя. Подтверждением этого, помимо результатов исследования, является не имеющая рационального объяснения, несколько снижающаяся, но все же пролонгированная популярность ЛДПР и, напротив, несмотря на фундиро-ванность левыми настроениями в обществе, неуклонное падение общественного доверия к КПРФ.
Во-вторых, некоторая связь партий с определенной идеологией отмечается только в случаях с КПРФ и «Яблоком». В первом случае это связано с традиционным взглядом на объединения, несущие этот бренд, как на носителей коммунистической идеологии, во многом не утра- тившей своей привлекательности, во втором – с оппозиционным статусом партии, являющимся для респондентов маркером наличия принципиальной позиции, в свою очередь, отождествляемой с идеологией.
В-третьих, результаты опроса позволили представить уровень рецессии социальной укорененности современных российских партий. Отождествление с КПРФ надежд на возврат советского прошлого среди части населения, чаяния пенсионеров, связанные с деятельностью «Справедливой России», и оппозиционное настроение интеллигенции, связанное с партией «Яблоко, определили более высокие показатели социализации этих партий.
В-четвертых, превращение партий в инструмент «политического бизнеса» способствовало утрате ими реального влияния в обществе, оставив за ними виртуальную общественную значимость, составляющую потенциал для отстаивания места в иерархии властной вертикали.
Конфигурация места и роли российских партий в социуме обусловила несколько их сущностных черт. Во-первых, партии утратили облик «замкнутых рыцарских орденов», объединяющих единомышленников, разделяющих одни ценности и идеалы и возглавляемые наиболее последовательными их носителями. Механизм
«партийных лифтов», гарантирующих высокий партийный статус, основывается, как правило, не на идеологическом целомудрии, а на материальных ресурсах, которыми располагают претенденты на высокое место в партийной иерархии.
Являясь средством транзита в «касту властвующих», в контексте процессов коммодификации политического про цесса1 партии приобретают свойства обла-дателя реального политического «товара», обеспечивающего, помимо прямой мате риальной выгоды, некоторую автономию в рамках единой политической системы.
Став носителями транзитного ресурса, парламентские партии России становятся последовательными противниками демо кратизации отечественного партогенеза.
Формат узкокорпоративных интересов препятствует генерации партиями поли тических идей, способных мобилизовать общество, нацию или даже сколько -нибудь внушительную часть населения.
Не менее важно и то, что партии, утра -тившие прежние мобилизующие функ ции, потеряли способность рекрути рования в политический процесс пас сионариев, избавляющих политическое пространство от рутины и застоя. Новых политических лидеров все больше «со здают» PR-агентства, команды политиче -ских консультантов, имиджмейкеров.
Партии оставили в прошлом еще одну важную социальную функцию — роль коммуникатора, обеспечивающего поток информации «снизу», от народной массы, «вверх», к властным структурам, и в обрат ном направлении. И если канал доставки информации к власти слегка приоткрыва ется во время избирательных кампаний, то связь в обратном направлении исчезла абсолютно. Даже правящие партии не обладают реальной возможностью влия ния на массы, а следовательно и трансля ции потенциала легитимности политиче скому режиму.
Совершенно излишне сегодня упоми нать о политико образовательных, вос питательных способностях политических партий, широко применяемых в эпоху тоталитарных режимов и переходные периоды истории.
В последнее десятилетие происходит очевидная утрата населением интереса к партиям. Отчасти это связано с его пред -почтением неиерархизированных объеди-нений партийной организации, в т.ч. реа-лизуемых через нетрадиционные сетевые связи. С другой стороны, смена партий, всплеск активности в избирательные кам пании, соотношение партийного пред ставительства в парламенте практически не отражаются на положении народа, все больше склоняющегося к отстаиванию своих жизненных интересов путем уча стия в акциях протеста, в т.ч. неформали-зованных.
Безусловно, исчерпывающих рецептов партийного «ренессанса» не существует. Сегодняшняя реальность такова, что вполне возможен вариант, при котором растущие в информационном простран стве сети мо гут поглотить весь имею щийся и нарождающийся потенциал социальных «размежеваний», фундирую -щих партогенез. Сохранить и укрепить роль института общественных полити ческих партий могут решительные (а не половинчатые) меры в двух направле-ниях. Во первых, это инкорпорирование партий в процесс принятия важных го сударственных решений. Одним словом, власть должна стать партийной. Хотелось бы думать, что шаги по реанимации «Единой России», предпринимаемые новым главой правительства, являются модельными в выстраивании страте гии приобщения всех партий к государ ственному управлению. Во вторых, это ликвидация противоречий в политико правовой основе функционирования партий, которые связаны с совмещением провозглашенного партиями представи тельства общественных интересов на всех уровнях и жесткого административного контроля за их деятельностью, исключа ющего наличие независимой, укоренен ной в социуме политической позиции.