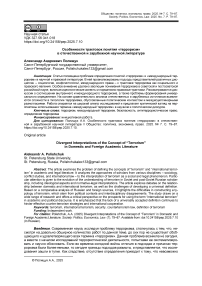Особенности трактовок понятия «терроризм» в отечественной и зарубежной научной литературе
Автор: Полищук А.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме определения понятий «терроризм» и «международный терроризм» в научной и правовой литературе. В ней проанализированы подходы представителей различных дисциплин ‒ социологии, конфликтологии, международного права ‒ к трактовке терроризма как социального и правового явления. Особое внимание уделено эволюции понимания терроризма в советской и постсоветской российской науке, включая идеологические аспекты и нормативноправовые трактовки. Рассматриваются дискуссии о соотношении внутреннего и международного терроризма, а также проблемы формирования универсального определения. На основе сравнительного анализа отечественных и зарубежных источников выявляются сложности в типологии терроризма, обусловленные политическим контекстом и междисциплинарными разногласиями. Работа опирается на широкий спектр исследований и предлагает критический взгляд на перспективы использования термина «международный терроризм» в научном и политическом дискурсе.
Терроризм, международный терроризм, безопасность, антитеррористическое право, определение терроризма
Короткий адрес: https://sciup.org/149148764
IDR: 149148764 | УДК: 327.56:341.018 | DOI: 10.24158/pep.2025.7.10
Текст научной статьи Особенности трактовок понятия «терроризм» в отечественной и зарубежной научной литературе
выработать единую стратегию по борьбе с террористами, а также профилактике террористической активности и противостоянию рекрутированию новых членов террористических групп.
Целью настоящего исследования является выявление особенностей формирования и развития дефиниций понятий «терроризм» и «международный терроризм» в отечественной и зарубежной научной, правовой мысли, с акцентом на междисциплинарные, идеологические и политико-правовые аспекты трактовки данных терминов.
Методы исследования: междисциплинарный подход, общенаучные методы индукции и дедукции. В работе используется историко-генетический метод анализа эволюции понятий «терроризм» и «международный терроризм». Также используется сравнительный метод анализа советских и западных подходов к формированию данных терминов.
В период существования СССР терроризм и его международная составляющая рассматривались с позиций ярко выраженного идеологического противостояния. В СССР, особенно в его ранние годы, термин «терроризм» часто использовался в контексте борьбы с антисоветскими элементами и не совпадал с современным пониманием этого явления. Обращаясь к опыту советского права, мы видим, что в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. термина «терроризм» еще не существовало, а вместо этого был ряд статей, которые прямо или косвенно упоминали терроризм через установление наказания за совершение террористических актов. Так, ст. 64 УК РСФСР 1922 г. устанавливает ответственность в виде высшей меры наказания и конфискацию всего имущества за «участие в выполнении в контрреволюционных целях террористических актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных рабоче-крестьянских организаций, хотя бы отдельный участник такого акта и не принадлежал к контрреволюционной организации…»1. Ст. 65 УК РСФСР 1922 г. делает упор на способах осуществления террористической деятельности. Уголовно наказуемым считается: «Организация в контрреволюционных целях разрушения или повреждения взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопроводов, общественных складов и иных сооружений или строений, а равно участие в выполнении указанных преступлений…»2. Подход советского УК 1922 г. акцентирует внимание на контрреволюционной деятельности, при этом объектами терроризма считаются не общество в совокупности, а только его отдельные представители, занимающие определенные государственные и общественные должности. В УК РСФСР 1926 г. террористические акты продолжают квалифицироваться как преступления, направленные на совершение контрреволюционной деятельности, но выделены в рамках отдельной части (ч. 8) ст. 58 УК РСФСР3.
Во второй половине XX столетия в советском праве происходит качественный поворот в оценке терроризма. Терроризм больше не увязывается с контрреволюционной деятельностью, а представляет собой противодействие действующим органам власти. В ст. 66 УК РСФСР 1960 г. террористический акт выделен в отдельное преступление и определяется как «убийство государственного или общественного деятеля или представителя власти, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью, с целью подрыва или ослабления Советской власти»4. Эта же статья дополняет: «Тяжкое телесное повреждение, причиненное в тех же целях государственному или общественному деятелю или представителю власти в связи с его государственной или общественной деятельностью»5. Примечательно, что в рамках УК 1960 г. произошло расширение объекта терроризма, где четко отмечается международная составляющая данного феномена. Ст. 67 УК РСФСР 1960 г. указывает на международные последствия террористической деятельности и устанавливает аналогичные со ст. 66 наказания за «убийство представителя иностранного государства с целью провокации войны или международных осложнений»6. То же касается и телесных повреждений, причиненных иностранному лицу с теми же целями7. Примечательно, что трактовка террористического акта из УК РСФСР почти полностью перешла в Большую советскую энциклопедию (БСЭ), где террористический акт обозначался как «посягательство на жизнь или иная форма насилия над государственными или общественными деятелями, совершаемые с политическими целями»1.
Несмотря на отсутствие в УК РСФСР и БСЭ терминов «терроризм» или «международный терроризм», в советской научной литературе неоднократно поднимался вопрос о природе данного явления, но, как правило, изучение феномена происходило в очень жестких идеологических рамках. Терроризм, а точнее его причины, сущность, разновидности, субъекты, объекты – все это связывалось со стремлением буржуазии подавить мировое коммунистическое движение или являлось логичным последствием развития капиталистического общества и сигнализировало о его упадке. Советские исследования терроризма можно разделить на две группы. К первой группе относятся работы, посвященные изучению «правого» терроризма. Они объясняют терроризм как проявление неоколониальной политики, являющейся не только продолжением политики империализма, но и противодействием международному движению рабочих и крестьян, а также СССР. Так, например, А.М. Байчоров утверждает, что «основы международного терроризма, т. е. терроризма, направленного против стабильности международных связей, были заложены монополистической буржуазией в борьбе против первого в мире государства рабочих и крестьян» (Байчоров, 1985: 36). Терроризм рассматривается как метод продавливания интересов отдельных стран, в частности США, которые через создание сети организаций подавляют отдельные проявления освободительных движений. Кроме того, Байчоров говорит о создании «субимпериалистических центров», под которыми понимаются государства (такие как Бразилия, Израиль, Аргентина), получающие финансовую помощь от США и проводящие в странах своего региона борьбу против «прогрессивных национально-освободительных движений и освободившихся стран, придерживающихся социалистической ориентации» (Байчоров, 1985: 111‒114). С ним согласны В.Г. Иванов и А.И. Иванов, которые также видят в США «главный центр организации терроризма против народов, борющихся за национальную независимость и социальный прогресс» (Иванов А., Иванов В., 1983: 17). Схожую точку зрения выдвигает Л.А. Маджорян, которая утверждает, что «современный империализм, и в первую очередь одержимый манией величия и стремлением к господству американский империализм, не гнушается никакими средствами для восстановления своих рухнувших под ударами национально-освободительных и социальных революций позиций в мире. В арсенале этих средств особое значение придается терроризму, используемому в качестве идеологического, политического и военного оружия» (Моджорян, 1986: 229).
Ко второй группе исследований можно отнести работы, посвященные критическому анализу «левого» терроризма, актуальность которого возросла в 70-е гг. XX столетия. Как правило, деятельность «левых» террористических групп, действовавших в это время, оценивалась советскими исследователями негативно. Основой аргументации была позиция, что терроризм и стремления национально-освободительного движения несовместимы. Идеи «левых» террористов обозначались как примитивные, вульгарные и эклектичные, а насилие, практикуемое «левыми» группами, обозначалось как не имеющее ничего общего с революционным насилием (Витюк, Эфиров, 1987: 283‒289). Вместе с тем данные исследования также можно разделить на два направления, которые, на взгляд автора, противоречат друг другу и не являются взаимодополняющими. Первое направление исследований говорит о том, что «левый» терроризм – это чрезмерная реакция изначально «левых» групп, которые, не встретив должной поддержки пролетариата, перешли к террористическим методам. Негативное отношение и отсутствие поддержки данных групп объяснялось тем, что их идеология представляла собой «причудливое смешение и переплетение анархизма, троцкизма, маосизма, социал-реформизма, буржуазно-либеральных концепций, а также левацких интерпретаций марксизма-ленинизма»2. Второе направление исследований объясняет терроризм как провокацию против национально-освободительного движения империалистическими странами. Л.А. Моджорян прямо говорит о том, что «“левый” терроризм, нередко вдохновляемый и организуемый спецслужбами империалистических государств, широко используется для дискредитации действительно прогрессивных партий и движений…» (Моджорян, 1986: 229). С ней согласен А.С. Грачев, который считает, что международный террор ‒ «это не освободительная борьба, а, напротив, противодействие ей» (Моджорян, 1986: 45).
Говоря о советских исследованиях, необходимо отметить, что, несмотря на довольно односторонний взгляд на проблему, уже тогда ученым было очевидно, что определение терроризма представляет собой сложнейшую задачу. Однако причины этого объяснялись в рамках марксистско-ленинской идеологии. П.А. Прилуцкий отмечает, что «вместо одного определения с научным обоснованием сущности терроризма, антикоммунисты вынуждены строить трехступенчатые определения»1. Он связывает это с попыткой буржуазии скрыть собственный террор и отрицанием западными исследователями классовости данного вопроса. Вместе с тем в исследованиях В.В. Витюка и С.А. Эфирова появляются трактовки терроризма, близкие к современным исследователям: «Терроризм есть тактика политической борьбы, характеризующаяся систематическим применением идеологически мотивированного, но не связанного с массовой борьбой вооруженного насилия, выражающегося в политических убийствах и других действиях, представляющих угрозу жизни и безопасности людей» (Витюк, Эфиров, 1987: 237). Т.С. Бояр-Сазонович также выделяет элемент запугивания и предлагает избегать излишних классификаций терроризма2.
Можно справедливо сказать, что не только советские научные труды были излишне политизированы. По ту сторону океана исследования терроризма также не смогли избежать влияния противостояния в рамках холодной войны. Корни терроризма виделись на Западе в деятельности СССР или социалистической идеологии. М. Крэншоу говорит о том, что уже к 1981 г. в западной науке был сформирован целый пул исследований, имевших предвзятую политическую позицию, где вина за терроризм возлагается на «революционные идеологии, марксизм-ленинизм или национализм, на слабость правительств, уступающих требованиям террористов, или, наоборот, на жёсткие репрессивные меры со стороны государства» (Crenshaw, 1981: 379). СССР обвинялся не только в поддержке террористической деятельности по всему миру (Carnes C.F., Carnes C.F., 1986: 18‒23), но и представал как хрестоматийный пример государственного терроризма (Murphy, Brady, 1982: 141). Хотя встречались и схожие с советской точкой зрения исследования, где терроризм трактовался как результат политики США, а действия в Латинской Америке и Африке стали «важной формой терроризма, его главная цель – обеспечить США и их союзникам возможность свободного использования обычных войск и поддержки “борцов за свободу” вроде Савимби и никарагуанских контрас в глобальном масштабе» (Herman, 1987: 19).
Тем не менее именно в период противостояния с СССР в западной науке сформировалось большое количество исследований, в рамках которых удалось определить основные характеристики терроризма, до сих пор используемые как отечественными, так и западными учеными. К числу первых исследователей, занявшихся проблемой определения терроризма, относят У. Лакера, который не только указывал на политическую природу терроризма, но и одним из первых обратил внимание на социальную составляющую феномена: «Произошло осознание, что частота насилия каким-то образом отражает социальную несправедливость ‒ “систему”, низкие доходы, плохие жилищные условия, недостаточное образование» (Laqueur, 1977а: 4). Кроме того, У. Лакер определил основную проблему в составлении определения терроризма: «Любое определение политического терроризма, выходящее за рамки простого обозначения систематического использования убийств, насилия, разрушений или угроз таких действий для достижения политических целей, неизбежно приведёт к бесконечным спорам» (Laqueur, 1977б: 79).
Заметный вклад в определение терроризма внес Д. Дугард. Он смог описать требования к всеобъемлющему определению, которое в итоге должно стать основой для конвенции по борьбе с терроризмом: а) все государства обязаны при любых обстоятельствах воздерживаться от поддержки партизанской деятельности на территории другого государства; б) запретить акты терроризма, нарушающие международный порядок, и четко определить международный элемент, который подпадает под юрисдикцию международного права; в) обязать государства выдавать или наказывать преступников в соответствии с Конвенцией; г) подтвердить неприятие международным сообществом государственного терроризма, как это выражено в Нюрнбергских принципах, Конвенции о геноциде и положениях о правах человека, закрепленных в Уставе ООН. Исследователи Ж. Ходгсон и В. Тадрос выделили «трилемму», которую необходимо решить для формирования определения. Проблема, по их мнению, состоит в том, что слишком узкое определение терроризма исключает все атаки на государство и на его должностных лиц, в то же время слишком широкое определение, уже включающее в себя государство и атаки на него, может стать основой для репрессий против легитимных борцов за свободу. К тому же возникает проблема: при попытке различить легитимные и нелегитимные атаки на государство, правоприменительные органы должны будут принимать политические решения, что попросту не соответствует их компетенции (Hodgson, Tadros, 2013: 33).
Отдельно стоит выделить исследования терроризма, посвященные проблеме определения границ права государств на самооборону в качестве ответных действий на террористические атаки. Расцвет такого рода исследований пришелся на период после атак 2001 г. в Нью-Йорке. Ответные действия США, а именно вторжения в Ирак и Афганистан, вызвали споры не только в научной, но и в политической среде. Согласно ст. 51 Устава ООН1, государства имеют право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Однако без четкого определения того, что считается террористическим актом, возникают споры о законности и соразмерности ответных мер, особенно когда речь идет о действиях против негосударственных субъектов и их связи с правительствами государств. Террористические акты, по мнению К. Штана, должны быть четко связаны с государством, против которого применяются меры по самообороне. Однако, как правило, установить наличие связей тех или иных групп представляется крайне сложным, в особенности если это касается несостоявшихся государств (failed states) (Stahn, 2003: 35‒54), где отсутствует вертикаль власти, а правительственные органы и силы не контролируют часть территорий. Примечательно, что большая часть такого рода исследований трактует действия США крайне неоднозначно и говорит скорее о нарушении международного права и невозможности четко определить границы не только права на самооборону, но и ответственность государств, с территории которых были осуществлены или планировались атаки. Терроризм в них зачастую выступает как разновидность вооруженных атак, осуществленных негосударственными акторами2.
Важную роль в изучении терроризма играют социологические исследования, которые можно разделить на два подхода. Представители первого, наиболее популярного в научной среде подхода, утверждают, что терроризм проистекает из бедности и низкого уровня образования. Однако представляется, что терроризм, как явление преимущественно политическое, коренится в общественных проблемах скорее политического, чем экономического характера. С этим согласны А. Крюгер и Ж. Малечкова, которые говорят о том, что, несмотря на наличие связи между бедностью, уровнем образования и терроризмом, связь эта очень слабая. Они определяют, что «терроризм – это насильственная форма политического участия» (Krueger, Malečková, 2003: 142). С ними согласен О.Т. Тёрк, утверждающий, что «террористические акты носят политический характер, редко имеют психопатологическую или материальную подоплёку. Напротив, всё больше доказательств указывает на то, что терроризм ассоциируется с относительным благополучием и социальным преимуществом, а не с бедностью, нехваткой образования или другими признаками лишений» (Turk, 2004: 273).
Ко второй группе исследований, изучающих проблему терроризма в рамках социологического подхода, можно отнести те, в которых терроризм рассматривается как социальная конструкция. Терроризм выступает не как часть объективной реальности, а является попыткой различных игроков манипулировать общественным мнением. Из чего можно сделать вывод о невозможности формирования объективного определения. О.Т. Тёрк говорит о том, что «вопреки впечатлению, создаваемому официальной статистикой и сообщениями СМИ, терроризм не является объективно существующим феноменом, а представляет собой интерпретацию событий и их предполагаемых причин. Причём эти интерпретации не являются беспристрастными попытками представить истину, а являются осознанными усилиями по манипулированию восприятием для продвижения определённых интересов за счёт других» (Turk, 2004: 271‒272). Л. Стампницки ушла еще дальше в вопросах социальных конструкций, касающихся темы терроризма. Она ставит под сомнение существующие исследования терроризма (terrorism studies), говоря о том, что даже они являются социальным конструктом, сформировавшимся во времена президенства Рональда Рейгана. По ее мнению, администрация Рейгана изменила подход к терроризму, представив его как войну цивилизаций, за которой якобы стоял Советский Союз. Этот нарратив активно продвигался через конференции, книги и сенатские слушания, хотя многие эксперты и аналитики считали его идеологически ангажированным и недостаточно обоснованным (Stampnitzky, 2013: 108‒138). Схожей точки зрения придерживается М. Уэлч, который говорит о том, что после терактов 11 сентября риторика американских политиков, особенно в администрации Джорджа Буша, приобрела особую эмоциональную и идеологическую окраску. Терроризм стал восприниматься не просто как угроза, а как абсолютное зло, против которого ведется священная война, что усилило мифологизацию и даже религиозную символику происходящего. Активно использовались манипулятивные приемы: от вбросов искаженных данных до внушения чувства бессилия у населения с последующим предложением «единственного спасения» через сильного лидера. В результате война с террором превратилась не только в военную и политическую кампанию, но и в инструмент управления сознанием общества (Welch, 2006: 8‒15).
Позиция Уэлча и Стампницки отражает конструктивистский взгляд на терроризм как социальную конструкцию, формируемую через дискурс. Ситуацию осложняет тот факт, что изучение террористов в полевых условиях является крайне сложной, почти невыполнимой задачей. Исследований такого рода очень мало, но если таковые имеются, то их сложно назвать объективными. В изучении терроризма существует проблема не только политизации исследований, но и, как справедливо отмечают Р. Хюльсе и А. Спенсер, проблема «циркуляции знаний», которая проявляется при проведении полевых исследований, где объективные знания предстают как «интерпретация исследователя» (Hulsse, Spencer, 2008: 574). Представляется, что данное утверждение справедливо для всех видов исследований терроризма, что подтверждается огромным количеством взглядов на проблему. Конструктивисты предлагают вообще отказаться от выработки определения, как, например, Д. Брайан, утверждающий, что навешивание ярлыка «террорист» заведомо несет негативную окраску и отводит от объективного анализа террористического акта (Brayan, 2012: 19‒23). С ним не согласен Э. Ричардс, который говорит о том, что даже при наличии проблемы ярлыка «террорист», отказ от попыток выработки определения будет ошибкой, и что необходимо попытаться выработать более нейтральное определение (Richards, 2012: 43). Так, в частности, Р. Джексон предлагает определение терроризма: «Терроризм ‒ это насилие или угроза его применения, представляющие собой символически коммуникативный акт, в котором непосредственные жертвы инструментализируются как средство создания психологического эффекта устрашения и страха у целевой аудитории для достижения политической цели» (Jackson, 2011: 124). Несмотря на то, что это определение отражает ключевые характеристики терроризма, его трудно применять, например, в юридической практике, где требуется более конкретная и операциональная формулировка. Тем не менее оно наиболее полно выражает конструктивистское понимание терроризма как социально сконструированного явления, акцентируя внимание на коммуникативной природе насилия и политических целях, стоящих за ним.
В отличие от конструктивистов, неореалисты, такие как К. Уолтц и Дж. Миршаймер, игнорируют терроризм, сосредотачиваясь на государствах как главных акторах международной системы. Терроризм в их рамках рассматривается как инструмент слабых акторов, не представляющий системной угрозы. Р. Пейп выделяется среди реалистов и анализирует суицидальный терроризм как стратегию политического давления, особенно на демократические государства, например, с целью вывода войск. Он считает терроризм рациональной стратегией слабых, что поддерживают и К. Грэй, и М. Кревельд, описывая его как форму асимметричной войны, требующую комплексного противодействия. Либеральная традиция фокусируется на этике, институтах и кооперации. М. Уолцер определяет терроризм как преднамеренное убийство некомбатантов с целью посеять страх. Однако это определение критикуется внутри либерального лагеря. Дж. Флетчер указывает, что атаки не случайны ‒ террористы сознательно выбирают цели, а их действия направлены на достижение четких политических задач.
В современных отечественных исследованиях мы также видим изобилие подходов к определению терроризма. Говоря о причинах этого, стоит привести цитату О.А. Белькова: «В зависимости от того, кто выступает субъектом терроризма и кто является объектом, можно выделить принципиально различающиеся между собой его виды» (Бельков, 2001: 217). Действительно, каждый отдельный автор оценивает и определяет терроризм, основываясь на личном взгляде на проблему или только с позиций изучаемой им дисциплины. Так, видный исследователь терроризма В.Е. Петрищев выделяет пять разновидностей технологического терроризма: химический, биотерроризм, ядерный терроризм, радиационный терроризм, сельскохозяйственный терроризм (Петрищев, 2013). Г.И. Мирский отдельно выделяет политический, этнический и международный терроризм (Мирский, 2002). Наличие проблемы классификации терроризма отмечает А.К. Боташева, которая говорит о существовании в научной литературе следующих видов терроризма: аграрный, селективный, женский, зеленый, правый, левый, традиционный, защитный, наступательный, физический, психологический, ближневосточный, европейский, кавказский и др. (Боташева, 2008: 2311). Иногда в литературе встречаются даже такие спорные в толковании виды терроризма, как дипломатический (Букреева, 2023).
Естественно, такое изобилие подходов мешает формированию определения. Современные исследователи, как зарубежные, так и отечественные, предлагают свои варианты решения данной проблемы. С.У. Дикаев утверждает: невозможность выработки определения связана не со сложностью терроризма, а с тем, что «тому, что мировое сообщество не может прийти к единому мнению по данному вопросу, находится только одно объяснение – нежелание государств лишиться идеального во всех отношениях инструмента решения неограниченного числа задач» (Дикаев, 2006: 21). С ним согласен А. Шмид, который говорит о том, что вопрос дефиниции терроризма чаще всего лежит в политической плоскости и очень зависит от лиц, удерживающих власть в государстве (Schmid, 2023: 23). С точки зрения Шмида, в юридических и социальных науках нет ограничений, не позволяющих сформировать дефиницию терроризма, которая могла бы быть единой для большинства государственных акторов, принимающих непосредственное участие в борьбе с терроризмом во всем мире. По его мнению, при определении терроризма необходимо обращать внимание на две основные характеристики, которые составляют саму суть терроризма, а именно насилие и пропаганда. По сути, они остались неизменны с момента появления термина «террор» во времена Великой французской революции. Именно они являются основой терроризма ‒ через использование насилия в отношении одного терроризм пытается принудить и убедить другого.
Без преувеличения можно сказать, что западные исследования теоретиков международных отношений внесли значительный вклад в понимание проблемы терроризма. Не удивительно, что большая часть современных исследований в той или иной степени опирается на данные, полученные исследователями терроризма именно на Западе. Проблема терроризма обсуждалась на протяжении очень долгого времени и была в меньшей степени подвержена политической конъюнктуре, хотя и не была лишена ее полностью. Приходится признать, что современная политическая наука, в особенности касающаяся вопросов проблемы терроризма и его определения, последние 30 лет двигалась в одном фарватере с Западом. Как отечественные, так и западные исследователи теории международных отношений, конфликтологии и социологии изучают один объект, сталкиваются с одинаковыми проблемами, а для их решения используют один инструментарий, который был выработан как раз в западных исследовательских центрах и в итоге стал доминирующим в последние десятилетия.
В заключение следует отметить, что дефиниции понятий «терроризм» и «международный терроризм» формировались под сильным влиянием идеологических, политико-правовых и междисциплинарных факторов как в советской, так и в западной научной мысли. В советской традиции трактовка терроризма была тесно связана с классовой борьбой и антиимпериалистическим дискурсом, тогда как западные исследования, несмотря на большое методологическое разнообразие, также не избежали политизации. В конечном итоге именно западная академическая школа разработала концептуальный и методологический инструментарий, ставший основой для большинства современных подходов к изучению терроризма.
Таким образом, несмотря на наличие множества определений и подходов, проблема дефиниции терроризма остается нерешенной, что обусловлено не только сложностью самого явления, но и его политико-правовой ангажированностью. Однако выделение устойчивых признаков терроризма ‒ насилия и пропагандистской цели ‒ позволяет говорить о возможности выработки более универсального определения, приемлемого для междисциплинарного и международного научного и правового дискурса.