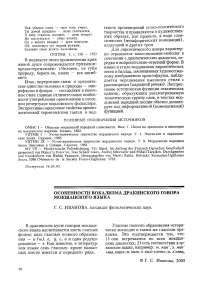Особенности вокализма дракинского говора мокшанского языка
Автор: Иванова Г.С.
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3-4, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14718534
IDR: 14718534
Текст статьи Особенности вокализма дракинского говора мокшанского языка
Как убьешь меня — твоя мать умрет,
Ты домой придешь — жена скончается, В избу станешь входить — дети помрут. Не послушался — убил уточку.
Он в ворота входил — дети померли.
Ой, всплеснул тут парень руками, Заломил свои десять пальчиков.
(УПТМН I, с. 158 - 159)
В подтексте этого произведения крик живой души сопровождается призывом-предостережением: «Человек, не губи природу, береги ее, иначе — все погибнет!»
Итак, внутренняя связь и органическое единство человека и природы — микрофауны и флоры — составляют в конечном счете главные отличительные особенности употребления орнитопимов в песенном репертуаре мордовского фольклора. Экспрессивно-оценочные свойства орнитологической терминологии таятся в под тексте произведений устно-поэтического творчества и проявляются в художественных образах, как правило, в виде слов-символов (метафорических номинаций), аллегорий и других троп.
Для лироэпического жанра характерно отрывистое повествование-монолог в сочетании с драматическим диалогом, нередко в вопросительно-ответной форме. В языке и стиле мордовских лироэпических песен и баллад, посвященных художественному изображению орнитофауны, наблюдается чередование высокого стиля с разговорным (народной речью). Экспрессивно-эстетическая функция лексических единиц, образующих рассматриваемую тематическую группу слов, в текстах мордовской народной поэзии обычно доминирует над информативной (номинативной) функцией.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ
ОМНС I — Образцы мордовской народной словесности. Вып. 1. Песни на эрзянском и некоторые на мокшанском наречии. Казань, 1882.
УПТМН I — Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 1. Эпические и лироэпические песни. Саранск, 1963.
УПТМН IX — Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 9. Мордовские народные песни Заволжья и Сибири. Саранск, 1982.
MV VII — Mordwinische Volksdichtung. VIL Band: Im Auftrag der Finnisch-Ugrischen Gesellschaft gesammelt von Makar'ij Evsev’ev, Ivan Schkol'nikov, Andrej Schuvalov und Mihail Tarajkin. Durchgesehen und transkribiert von Heikki Paasonen. Herausgegeben von Martti Kahla. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1980.(Memoires de la SociSte Finno-Ougrienne; 176).
Поступила 16.05.03.
ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛИЗМА ДРАКИНСКОГО ГОВОРА МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА
Г. С. ИВАНОВА, кандидат филологических наук
В дракинском кусте говоров мокшанского языка насчитывается шесть гласных фонем: пять гласных полного образования — и (bi), е, у, о, а и одна редуцированная — б. Как известно, в литературном языке семь гласных: кроме названных шести имеется а переднего ряда.
Гласные полного образования исторически восходят к таким же гласным праязыка. Это подтверждается тем, что: 1) они встречаются во всех мокшанских диалектах; 2) есть соответствия в эрзянском языке, например: м. мин\ э. мин1 «мы, наш»; м. кизь, э. кизэ «лето»; м. л'ельц,
э. л’емезэ «его имя»; м. куд, э. кудо «дом»; м. ков, э. ков «луна»; м. ава, э. ава «женщина, мать».
О появлении редуцированного гласного в мокшанском языке единого мнения нет. Одни ученые [3, с. 97; 1, с. 116; 4, с. 17] считают, что в общемордовском языке его не было и он возник в период самостоятельного развития мокшанского языка из узких гласных верхнего подъема, когда они оказались в безударном положении. Другие исследователи относят его к прамордонекому периоду [2, с. 272; 5, с. 24], видя подтверждение этому в том, что в первом слоге слова редуцированная гласная фонема во многих случаях носит общемокшанский характер. Таких слов в мокшанском языке немало (и дракинский говор не исключение), например: драк., центр., зап., м. л. ър’ве: ър’ва «жена»; драк., центр., зап., м. л. ърдас «грязь»; драк., центр., зап., м. л. кър’н’е : кър’н’а «катушка»; драк., центр., зап., м. л. сър^камс «собраться»; драк., центр., зап., м. л. мърга «место перед печью»; драк., центр., зап., м. л. кърнамс «храпеть»; драк., центр., зап., м. л. кър^ка «глубокий». С другой стороны, в дракинском говоре & первого слога в словах типа т'ъш^н’е «травка», пън’ън’е «собачка», съкске «червячок» — вторичный (сравните в других говорах: т'ишън’а, пинЧн'а, су кека).
Дракинский говор отличается от мокшанского литературного языка не только количеством гласных, но и этимологией. На первый взгляд кажется, что в говоре отсутствует только ^'переднего ряда, а все остальные гласные совпадают как по признаку горизонтального и вертикального расположения языка, так и по участию губ. Это не совсем так. Дело в том, что е в нем этимологически неоднороден с литературным вариантом: первый восходит к общемокшанскому *а, а второй — к общемокшанскому *е. Там, где в дракинском говоре выступает гласный в, в мокшанском литературном языке стоит более древний а, который в говорах сузился до е: драк, н’ем&мс, м. л. Найиме «увидеть»; драк, л’ейн’е, м. л. л*айн’а «речка»; драк. т’еч’и, м. л. т’ачи «сегодня»; драк, не ш’т’е, м. л. пашт’ъ «орех»; драк, вал1 не, м. л. вал* на «окно»; драк, т’ер’ей, м. л. т'сЙ’&й «мама».
В литературном языке и других диалектах, где присутствует фонема а, перед твердыми согласными она чередуется с а. В дракинском говоре точно так же ведет себя фонема е < а, в то время как общемокшанский в чередованию не подвергается: драк, вал'ме, м. л. вал’на «окно», общая форма вал’мат «окна»; драк. валн'е, м. л. валн'а «словечко», общая форма валн’ат «слова»; драк, акл’е, м. л. акл’а «старшая золовка», общая форма акл’ац «ее золовка»; драк, пац’е, м. л. пац’а «крыло», общая форма пац’ат «крылья»; драк, куйе, м. л. кумаг«жир», общая форма куйав «жирный».
Но на фонеме а процесс сужения гласных не завершился. Параллельно с этим явлением произошел переход общемордовского *е в диалектный и. В словах, где в литературном языке выступает гласный е, в дракинском говоре повсеместно идет и: драк. с’ид\ м. л. с’ед’ «мост»; драк, ви, м, л. ее «ночь»; драк. вид’, м. л. вед’ «вода»; драк., кид’, м. л. кед’ «шкура». Переход не охватил лишь положения между двумя твердыми согласными: драк., м. л. кеду «береза»; драк., м. л. кемс’ «лиса»; драк., м. л. вер «кровь»; драк., м. л. келда «клоп»; драк., м. л. нес «почему?»; драк., м. л. керъмс «отрезать»; драк., м. л. кесак «моток»; драк., м. л. пешкъдъмс «закричать, крикнуть, окликнуть»; драк., м. л. мерандамс «примерить, отмерить». Но встречаются и исключения: милавн’е < мелавн’а «бабочка», вид-раш <ведраги «телок», видарка < ведар-ка «ведро», кипъд’ъмс < кепъд’ъмс «поднять», кипт’ър'н’е < кепт’ър’н’а «лукошко».
Отличительной особенностью дракин-ского куста говоров является йотированное произношение гласного е < *^ в абсолютном начале слова: драк, йеш’и, м. л. ашы, в других диалектах йоты : йеш’и : ашы : эш’и «колодец»; драк, йел’бед’ъмс, м. л. ал’бад’ъмс, в других диалектах йал’бад^мс : ал’бад’ъмс : эл’бед’ъмс «ошибиться»; драк, йевъд’ъмс, м. л. авъд’ъмс, в других диалектах йавъд’ъмс : йвъд’ъмс : эвъдЧмс «испугаться»; драк. йер’хке, м. л. ар’хкъ, в других диалектах йар’^кй: ар’*ка : эр,хке «родник»; драк. йеш’е, м. л. йшъ, в других диалектах йашъ : йеш’е : аш» ; эш’е «прохлада»; драк.
йер^т'ъмс, м. л, ар’хт’ъмс, в других диалектах йар^т’-ъмс : эр’хт*ъмс «стукнуть».
В первом слоге слова в безударном положении часто наблюдается редуцирование общемордовского *и. Если сравнить со средневадским диалектом [2, с. 270], который тоже относится к икающим говорам, то в нем качество м сохраняется: драк, вър'н’е, ср.-вад. вир’н’е, м.л. вир’н’И «лесок»; драк, к&л’д’ан, ср.-вад., м. л. кил’д’ан «я запрягаю»; драк, с’ъфт’ъмн’е, ср.-вад. с’ифтп’ъмн’е, м. л. с’ифт’ъмн’а «решето» (деминутивная форма); драк. с’ъз’ън’д’ан, ср.-вад., м. л. с’из’ън’д’ан, «устаю»; драк, въд’ан, ср.-вад., м. л. вид’ан «я сею».
Но в средневадском диалекте отмечается редуцирование гласных полного образования в первом слоге под ударением: с’т’ър’ «девушка», мър’д’е «муж» (в других диалектах с’т’ир’, мир’д’ъ). Таких слов встречается не очень много.
Следует сказать, что в положении между двумя мягкими согласными широкий гласный а не употребляется, вместо него идет диалектный е; с’т’амс «встать», но с’т’ей «встанет»; вил’хт’амс «накрыться», но вил’^’ей «накроется»; вил’амс «свалиться», но вил’ей «свалится». Перед непарным й происходит дальнейшее сужение диалектного е до и; т’асъ «здесь», но т’ени «теперь» и тут же т’ийъст «тем»; с’акън’ «того же», но с’ен’д’и «тому» и сийъст «тем, им». В рассматриваемых словах после мягкого согласного при изменении фонетической позиции наблюдается тройное чередование а / / е // и.
В безударном положении редукции подвергается не только узкий гласный переднего ряда верхнего подъема и, но и узкий гласный заднего ряда верхнего подъема у; драк, кул^’ъндъмс, но кълхцйндан, м. л. кулхуьндъмс и кулх-цъндан «слушать — слушаю»; драк. пуръптъмс, но пърътпат, м. л. пуръптъмс и пуръптат «собирать — соберешь»; драк. мус’къмс, но мъс’кан, м. л. мус’къмс и му с’кан «стирать — стираю»; драк. с’ъкън’амс, м. л. с’укън’ амс «кланяться».
Частотность распространения гласных неодинакова. Выше она у а. В корневом закрытом слоге качество этого гласного совершенно не зависит от окружающих согласных, но на морфемном стыке между двумя мягкими согласными а чередуется се: ал’ат «мужчины» — драк, ал’ес’ «тот мужчина», м. л. ал’ас1; пр’ат «головы» — драк, пр’ес’ «та голова», м. л. ал’ас’; с’т’амс «встал» — драк, с’т’ес’ «он поднялся», м. л. с’т'ас’; т’р’амс «прокормить» — драк, т’р’еск «мы прокормили его», м. л. т’р’йс'к; пар’амс «попариться» — драк, пар’ес’к «мы его пропарили», м. л. пар’ас’к.
В первом слоге гласный а всегда ударный.
Фонемы и, у в первом слоге под ударением также встречаются, как и в других мокшанских диалектах, причем и лишь после мягкого, а у — после любого по качеству согласного: киръмс «уменьшиться», с’имъмс «попить», пид’ъмс «сварить», с’ифт’ъм «решето», с’ит’ън’ «щепетильный, придирчивый»; куну’^мс «ловить», пужъмс «поставить», сускъмс «откусить», с’ур’е «нитка» (в северной группе центрального диалекта с’ир’е), с’ула «кишка».
В то же время при словоизменении или словообразовании, когда в последующих слогах появляется а или е < а и у оказывается в безударном положении, он чередуется с ь: кънц’ан «я ловлю», п^тан «я ставлю», съскан «я откушу», с’ъман «я попью», с’ъфън’д’ан «я просеиваю» (в других диалектах кунцан, путан, сускан, с’иман, с’ифън’д’ан). Поэтому частотность употребления гласного у в первом слоге ниже, чем в тех мокшанских диалектах, которые не знают процесса редукции.
Гласный и распространен больше, чем в других диалектах: во-первых, под ударением сохранилась общемокшанская фонема и (в безударном положении она тоже подверглась редукции, что иллюстрируют приведенные выше примеры); во-вторых, в позиции между двумя мягкими согласными или после мягкого согласного до и сузилась общемордовская фонема *е.
Дракинский куст говоров первенствует среди диалектов и ло употреблению фонемы в: 1) сохранилась общемокшанская фонема *ь: мбрга «место перед печью», къргамс «загребать», пъс’мар «скворец», кътнамс «кудахтать», ърдас «грязь», ър’вен’е «невеста»; 2) в безударном положении имеется & < и; 3) в безударном положении стоит 6 < у.
Фонема о в первом слоге слова может иметь любое фонетическое окружение, а в безударном положении отсутствует: олга «жердь», озамс «сесть», ломан' «человек», тоз’ър «пшеница», с’ора «юноша», офта «медведь», мол’ъмс «идти», оф у «большой». В непервом слоге исконных слов о не встречается.
В пепервом слоге слова употребляются те же гласные, что и в первом, но частотность их использования иная. Если в первом слоге, как правило, наблюдаются гласные полного образования и реже — редуцированный, то в непервых слогах, наоборот, преобладает редуцированный, который после мягкого согласного выступает в своем переднерядном варианте ъ, а после твердого согласного — в заднерядном варианте ъ.
Исконная фонема е в непервом слоге слова в дракинском говоре повсеместно перешла в и. Но в середине и конце слов зафиксирована е < *а\ драк, коз’е, м. л. коз’а «богатый»; драк, акл’е, м. л. акл’а «золовка»; драк, карьке, м. л. карька «ковш»; драк, up’ей, м. л. эр’йй «живет».
В абсолютном исходе многих слов можно услышать гласный звук е, который в позиции закрытого слога чередуется с редуцированным гласным: драк, пил’е, центр, пил’а «ухо», общая форма пил’ът «уши»; драк, вил’е, центр, вел’а «село», общая форма вил’ът : вел’ып «сёла»; драк, пин’е, центр, пин’а« собака», общая форма пин’ът «собаки»; драк, пин’ге, м. л. пинга «время», общая форма пингъц «его время».
Если слово оканчивается на звукосочетания ге, ке, д’е, т’е, бе, пе, то при словоизменении перед согласным гласный звуке выпадает: пил’ге — пил*кт «ло га — ноги», с’ил'ге — с'ил’кт «бородавка — бородавки», нар’де — нар’т’т' «прочный — прочные», почке — почкт «стебель — стебли», т’еш’те — т’еш’тт «звезда — звезды», л’епе — л’епт «мягкий — мягкие», л’ембе — л’емпт «теплый — теплые».
В непервом слоге слова такой гласный е не имеет фонематического значения, поскольку его употребление строго ограничено позицией, которая не может считаться типичной. Поэтому звук е, чередующийся перед согласными с &, скорее всего, относится к числу вариантов редуцированного гласного, который в исходе слова после мягких или смягченных согласных расширяется и реализуется в звуке е, а после твердых согласных — в звуке а: драк, панда, другие диалекты панда «гора», общая форма пандъ-н’ «горы»; драк, валда, другие диалекты валда «свет», общая форма валдъц «его (ее) свет»; драк, карга, другие диалекты карга «журавль», общая форма каргъ-н’ «журавля»; драк, холма, другие диалекты холма «три», общая форма колмб-т «тройки»,
В форме множественного числа вместо форманта й развился мягкий ш’, в других же диалектах выступает сочетание ийх (ыйх): мол’и «идет» — мол’иш’т’ «идут», канды «несет» — кандыш'т’ «несут», кил*и «широкий» — кил’иш’т’ «широкие», н’уд’и «камыш, тростник» — н’уд’ши’тп’ «камыши, тростники», с’ил’бд’и «сверчок, кузнечик» — с’ил’ъд’иш’т’ «сверчки, кузнечики»; центр., зап. мод’и^т’, кандый^т’, кел’ийхт’ н’у-д’ийхт', фил’ъд’ийхт*
В дракинском кусте говоров мокшанского языка наблюдаются вокалические чередования гласных внутри корневой морфемы. В связи с недостаточной изученностью мокшанских говоров трудно определить, к какому историческому периоду они относятся. Вполне возможно, что эти чередования очень древние и возникли еще в общемордовском (или даже финно-угорском) языке-основе. С другой стороны, таких чередований не очень много и они носят спорадический характер. Можно допустить, что они могли появиться в период самостоятельного развития мокшанского языка в отдельных диалектах и говорах.
В дракинском говоре все гласные полного образования чередуются с редуцированным гласным и редко между собой:
я — &: лапш «плоский» — лъпштамс «сплюснуть, прижать, нажать»; пальме «гореть» — пълхтамс «сжечь»;
о — ь: коза «куда» — къван'е «где, по каким местам»; тоза «туда.» — тъван’е «там»; моркш «скамья» — мърга «место перед печью, где обычно стояла скамья»; котнай «наседка» — кьтнай «кудахчет»;
о — у ; и — ъ: нолга «слизь» — нулгът'ке : н’ил' гът’ке «слизняк» — н’ъл’гъд’ан «меня тошнит (от переедания)»;
и — ь" т’ийен'е «здесь» — тьван'е «там»; кивър’ъмс «катать» — кър’н’е «катушка»; н’иш’ке «улей» — прамъш «пчела»;
у — ъ; т'ур’ъмс «драться, сражаться» — търгадъмс «начать драться»; курга «рот» — кърга «шея»;
е — &: пешкъдъмс «крикнуть, позвать» — пъш’кед’ъмс «обратиться»;
у — а: кульме «умереть» — калма «могила».
Итак, в области гласных фонем дра-кииского куста говоров встречаются следующие явления: 1) сужение исторических гласных переднего ряда *а > е; *е > и; 2) расширение редуцированного гласного в конце слова; 3) чередования гласных — исторические и синхронные (междиалектные); 4) выпадение конечного гласного в конце формы исходного падежа: пангънкс «за грибами»; маринке «за яблоками»; 5) редукция узких гласных у, и в первом слоге слова в безударном положении; 6) вставка гласного: вир’ът «леса» — м. л. вир’ут’; кудън’е «мои дома» — м. л. куднъ; кудън’ън’ «моих домов» — м. л. кудн'ън’', кут-тьнък «наших домов» — м. л. кут-тънк.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ драк. — говор сел Старое и Новое Дракино Ковылкинского района Мордовии; зап. — западный диалект мокшанского языка; и. — мокшанский язык; м. л. — мокшанский литературный язык; ср.-вад. — среднсвадский диалект мокшанского языка; центр. — центральный диалект мокшанского языка; э. — эрзянский язык.
Список литературы Особенности вокализма дракинского говора мокшанского языка
- Бубрих Д. В. Историческая грамматика эрзянского языка. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1953. 270 с.
- Деваев С. 3. Средневадский диалею мокша-мордовского языка//Очерки мордовских диалектов. Саранск, 1963. Т. 2. С. 261 -433.
- Паасонен X. Мордовская фонетика. Гельсингфорс, 1903. 114 с.
- Современные мордовские языки: Фонетика/Под ред. Л. В. Бондарко, О. Е. Полякова. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993. 208 с.
- Цыганкин Д. В. Фонетика эрзянских диалектов: Учеб. пособие/Мордов. ун-т. Саранск, 1979. 111 с.