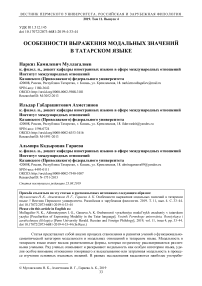Особенности выражения модальных значений в татарском языке
Автор: Муллагалиев Наркиз Камилевич, Ахметзянов Ильдар Габдрашитович, Гараева Альмира Кадыровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой анализ процесса становления и развития учений о функционально-семантической категории модальности и модальных отношений в татарском языке. Модальность в татарском языке имеет весьма разветвленные формы, которые по-разному рассматриваются различными учеными. Ряд ученых описывают и раскрывают модальность как особую категорию языка, уделяя особое внимание отношению говорящего к высказыванию или затрагивая модальность в процессе изучения основных языковых явлений. В рамках исследования выделяются наиболее употребительные модальные элементы татарского языка, идет перечисление самых распространенных модальных конструкций, приводятся примеры их употребления в аутентичных художественных произведениях. В то же время можно заметить, что в татарском языке не все средства выражения модальности структурно обозначены, а существующие категории сведены к перечислению модальных слов и модальных фраз. Особенностью татарского языка является многочисленность лексических средств, так как в языке аналитические способы словообразования преобладают над синтетическими. Тем не менее в татарском языкознании существуют также просодические, грамматические, стилистические, фразеологические средства представления модальности. Из этого следует, что категория модальности в широком смысле всецело относится и к рассматриваемому языку. Новизна работы заключается в том, что она предлагает более глобальный взгляд на понятие «модальность», рассматривая данную категорию с точки зрения фонетики, морфологии, лексикологии и семантики, а также с учетом психологических факторов построения речи. Данный подход позволяет выходить за рамки привычных исследований в области модальности татарского языка, которые традиционно связаны с анализом слов и словосочетаний с модальным значением.
Лингвистика, филология, модальность, лексикология, семантика, структура языка, художественный текст, татарский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147226986
IDR: 147226986 | УДК: 811.512.145 | DOI: 10.17072/2073-6681-2019-4-33-44
Текст научной статьи Особенности выражения модальных значений в татарском языке
ResearcherID: N-1751-2013
Статья поступила в редакцию 23.08.2019
Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:
Муллагалиев Н. К., Ахметзянов И. Г., Гараева А. К. Особенности выражения модальных значений в татарском языке // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 4. С. 33–44. doi 10.17072/2073-6681-2019-4-33-44
Please cite this article in English as:
Mullagaliev N. K., Akhmetzyanov I. G., Garaeva A. K. Osobennosti vyrazheniya modal’nykh znacheniy v tatarskom yazyke [Peculiarities of Expressing Modality in the Tatar language]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2019, vol. 11, issue 4, pp. 33–44. doi 10.17072/2073-6681-2019-4-33-44 (In Russ.)
В настоящее время непрерывно идет процесс интеграции наций и народов, развивается международное сотрудничество и возникает естественная необходимость в знаниях культурнонравственных, исторических, семейных ценностей взаимодействующих культур. Данная проблема актуальна и для татарского языка: современные реалии инициируют представителей, говорящих на татарском языке, к более масштабному изучению языка, с учетом не только грамматических и лексических, но и функциональносемантических составляющих. Изучение языка должно помочь выявлению культурно-нравственных и исторических особенностей его носителей через исследование речевых оборотов, морально-эстетических норм, элементов экспрессии, которые относятся к функционально-семантической категории модальности.
Процесс изучения вопроса модальности в тюркском языкознании развивается довольно своеобразно, так как до 50-х гг. XX в. в работах тюркологов и татароведов модальные слова или частицы не выделялись в отдельную категорию, а только рассматривались в составе других частей речи. Такой подход мы можем наблюдать в работах А. Казембека, А. Троянского, К. На-сыйри, И. Гиганова и др. [Мифтахова 1998: 29].
Одним из первых модальности предложения в целом и модальным словам в частности особое внимание уделяет Н. К. Дмитриев в своем труде «Грамматика башкирского языка», где он определяет модальные слова как «нечто среднее между отдельными словами и частицей». К модальным словам он относит:
-
1) бар – есть, имеется;
-
2) юк – нет, не имеется;
-
3) түгел – не есть;
-
4) кирәк, тиеш – надо, должно;
-
5) икән – кажется, оказывается;
-
6) бугай – должно быть.
Автор рассматривает модальные слова как переходный разряд, но не как самостоятельную часть речи [там же].
Появляются и другие исследования, которые являются предпосылкой к углубленному изучению вопроса модальности. В этом ряду ученых мы можем назвать А. Н. Кононова, Ф. Г. Исха-нова, А. А. Пальмбаха, С. Саидова, М. Р. Федотова, К. М. Мусаева, К. З. Ахмерова и др. В своих трудах они уделяют внимание возникновению и употреблению модальных слов в речи, дают определение модальных слов. Например, А. Н. Кононов называет модальные слова «отдельными словами, функционально соответствующими частицам, выражающим волеизлияние говорящего или отношение к действительности, к сообщениям о каких-либо фактах, устанавливаемых самим говорящим» [Кононов 1960: 60]. Вышеназванные ученые занимались изучением таких тюркских языков, как узбекский, турецкий, уйгурский, башкирский, и внесли большой вклад в развитие татарского языкознания, обозначив основные направления исследований в области модальности речи, модальных слов и частиц.
Модальность в татарском языке имеет очень разветвленные формы, которые по-разному рассматриваются исследователями. К изучению категории модальности обращались такие ученые, как В. Н. Хангильдин, М. З. Закиев, Ф. А. Ганиев, Д. Г. Тумашева, К. З. Зиннатуллина, Ф. С. Сафиуллина, М. А. Сагитов, З. М. Валиуллина, А. М. Ахунзянов, В. Н. Хисамова и мн. др. Некоторые из них описывают и раскрывают модальность как особую категорию языка, отдавая должное изучению выражения отношения говорящего к высказыванию, другие так или иначе затрагивают модальность в процессе изучения основных языковых явлений [Муллагалиев 2016].
Одним из первых в татарском языкознании акцентировал внимание на выражении категории модальности в предложении В. Н. Хангильдин [Хангилдин 1959: 23]. Изучая слова и их типы, он выделяет три вида:
-
1) Мөстәкыйль сүз – самостоятельное слово;
-
2) Ярдәмлек сүз – вспомогательное слово;
-
3) Ымлык сүз – междометное слово или междометие.
В рамках изучения слов он утверждает, что «существуют основные или самостоятельные слова, которые несут в себе объективную истину, сообщают нам какую-либо информацию; далее идут вспомогательные слова и междометия, которые обозначают добавочное отношение к высказыванию или украшают его для более точного и легкого восприятия». По мнению ученого, полноценное предложение состоит из композиции или правильного использования трех категорий слов [там же]. Он также отмечает тот факт, что некоторые из слов могут переходить из одной категории в другую. Например, в одном предложении слово может выступать как самостоятельная единица, а в другом случае нести в себе добавочное значение. Для сравнения приведем два предложения: Көн җылы булганлыктан ул өстенә киеп тә тормады. – Так как день был теплый, он ничего сверху не одел (пример и перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). Соңга калу өстенә, ул әле укытучыга каршы да әйтергә өл-гергән тормады. – Вдобавок к тому, что опоздал, он еще и учителю нагрубил (пример и перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). В первом случае «өстенә» – это «сверху» или «верхняя одежда», во втором – слово переходит в разряд вспомогательных слов и передается сочетанием «вдобавок к тому, что», которое несет в себе значение укора со стороны говорящего тому, кто опоздал и нагрубил. Таких примеров в татарском языке очень много, что указывает на неоднозначность данной категории в татарском языке. В. Н. Хан-гильдин хотя и отмечает, что отношение к высказываемому может проявляться по-разному, все же отдельно выделяет так называемые «слова, выражающие отношение» [там же], которые изначально, по своему основному смыслу несут в себе отношение говорящего к высказыванию, к реальности или к собеседнику. Это и не удивительно, так как таких модальных слов в татарском языке очень много, и они требуют отдельного рассмотрения. Среди модальных слов ученый называет такие, как «башлыча, гүя, мәсәлән, хәер, бәс, ичмасам, ягъни, өстәвенә» и т. д. Он не может отнести такого рода слова к названным ранее трем категориям слов: самостоятельные слова, вспомогательные слова и междометия. Он называет их новым течением для татарской грамматики и утверждает, что «изучением этих слов еще никто в татарской грамматике не зани- мался» [там же]. Здесь он замечает также, что русские грамматисты определили эти слова в отдельную категорию, которую назвали «модальные слова» [там же]. Ученый называет слова, относящиеся к данной категории, татарским термином «мөнәсәбәтлек», который на русский язык может быть переведен как «означающий отношение к чему-либо, несущий в себе дополнительный смысл». Данные слова он делит на восемь категорий.
-
1. Слова заключительные или подводящие итог (йомгаклау яки нәтиҗә мөнәсәбәтлекләре) – бәс, димәк , которые в основном располагаются в начале предложения и означают подведение итогов, заключение или выводы по тому или иному вопросу. Димәк, Нурсөя – әҗәлдән дару, яшәү, мәхәббәт символы... (Хоснияр, 211). Димәк, бу – үзебез сайлаган язмы (Хоснияр, 154). Ул врач булып эшләгәч, димәк, мәңге фатир алалмаячак (Хоснияр, 82).
-
2. Ограничительные слова (чикләнү мөнә-сәбәтлекләре) – башлыча, ниһаять, ахры, ичма-са, которые в предложении означают ограничение или высказывание следствия какого-либо процесса, происходившего в течение долгого времени, и говорящий видит целесообразность подведения итогов, высказав свое отношение. Менә, ниһаять , бер күл янында туктаттылар да, «команда» булганчы ял итәргә куштылар (Яруллин, 64). Балакайлар аны аңладылар, ах-ры , озак кына кымшанмый утырдылар (Яруллин, 135).
-
3. Слова, выражающие сомнение со стороны говорящего (шикләнү мөнәсәбәтлекләре) – ахры-сы, ахры – или неуверенность в объективности высказываемой идеи. Ахры мәңге оныта алма-мын, Тамбов урманнары уртасында усак яфраклары шаулавын...( «Мокамай») (Такташ, 121). Бәлки аның хәзер үк шиге бардыр. «Кызым» дип бик өзелеп тормады бит. Аһ, барысына да үзем гаепле (Яруллин, 258).
-
4. Слова, выражающие тождественность, схожесть (охшашу-тиңләшү мөнәсәбәтлекләре), – гүя, янәсе . Эти слова призваны требовать какого-либо доказательства высказывания и зачастую связывают предложение с каким-либо другим предложением. Ул, гүя, минем кулларымда үлеп китәр өчен генә тырышып, аптекадан кайт-канымны көткән иде (Хоснияр, 92). Хатын-кызлар бәйрәме белән котларга дип чыксам, кухняда Заһидәбануым элгечләргә элгән бер дистә күлмәк тотып тора: үзеңә кирәкне сайла , янәсе (Ахунов, 149).
-
5. Приписывающие слова (япсару мөнәсә-бәтлеге) – ди, дигән, диләр , которые показывают, что автор кого-то цитирует и передает не свои мысли и идеи, а ранее услышанные. Таким обра-
- зом говорящий восстанавливает в речи ранее услышанные факты из чужой речи. Зачастую это делается для придания речи большей уверенности и насыщения ее фактами. Иртә уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас, диләр (Мәһдиев, 149). Сугыш, имеш, яңа елга бетәчәк, ди (Мәһдиев, 152). «Акыллы кеше – атын, ахмак үзен мактый, үтә дә ахмак хатынын мактый», – диләр халыкта (Хоснияр, 152).
-
6. Слова, несущие в себе смысл утешения (тынычлану – юану мөнәсәбәтлеге), – хәер . Такого рода слова показывают стремление автора утешить себя, успокоить свою душу из-за какого-либо события или высказываемой им идеи. Хәер , яраткан кешең белән бергә булу гөнаһ микән? Гөнаһ белән бозыклыкның чиге кайда? Уф! (Яруллин, 371). Андый көчкә ия булсам, мәңгелеккә үземә берәрсен сихерләп куяр идем әле, – диде Җәүһәр. – Хәер, сихерләп каратырдай егетләре бармыни соң? (Яруллин, 267).
-
7. Слова, уточняющие и передающие основную идею (тәрҗемәләү мөнәсәбәтлеге), – ягъни, димәк . Они используются для дополнения ранее высказанной идеи, уточнения или выделения особых элементов в высказывании. Хәер, хәзер пенсионерлар да оста язалар. Күбесе югары бе-лемле. Тәмәкене күп тарта икән. Димәк , пенсионер әби дигән версия юкка чыга (Яруллин, 167).
-
8. Слова, обозначающие доказательство (дә-лилләү мөнәсәбәтлеге), – мәсәлән , которые, по мнению автора, используются часто для доказательства или дополнения фактами высказанной ранее идеи. Мин, мәсәлән, 30 ел эшләп тә алалмадым, врачларга тиеш түгел, күрәсең (Хоснияр, 82). Мәсәлән , Влад Листьев үтерел-гәч, аның дусты Андрей Разбаш тол хатын (үзебезнең милләт кешесе) белән тора башлады (Хоснияр, 107).
Таким образом, В. Н. Хангильдин одним из первых среди татарских ученых обратил внимание на слова, которые, будучи второстепенными, не неся основного смысла, активно выражали отношение говорящего к высказыванию. В «Грамматике татарского языка» ученый выделил их в особую группу слов, которые в тексте призваны выражать модальность предложения, нести модальную нагрузку высказывания. Данные слова, как отмечал В. Н. Хангильдин, в большинстве случаев встречаются в художественных произведениях.
На особые характеристики проявления категории модальности в татарском языке обращает внимание М. З. Закиев. Он обнаруживает более глубокий, системный и обновленный взгляд на вопрос модальности татарского предложения. Татарские лингвисты неохотно используют слово «модальность». Слово латинского происхож- дения в татарском языкознании несколько уступает слову «мөнәсәбәтле», а в отдельных случаях – «тойгылы». Первое слово имеет перевод «модальное слово», так как действительно может быть переведено как «выражающее отношение», а вот слово «тойгылы» можно перевести как «эмоциональное, чувственное слово». М. З. Закиев пользуется обоими терминами, но когда он делит предложения по цели высказывания, то отдает предпочтение термину «тойгылы» – предложение, насыщенное мыслями, внутренним миром, взглядами на жизнь, с какими-либо оценочными характеристиками. М. З. Закиев одним из первых пишет о том, что все предложения, независимо от их функциональной или целевой направленности, несут в себе модальное значение в любом его проявлении: например, в предложении «Снег растаял» предикативное слово должно быть передано с изъявительной интонацией. Иначе предложение потеряет весь свой смысл и перестанет выражать изъявительное наклонение [Закиев 2002: 10].
Важно также отметить, что М. З. Закиев говорит о модальности только предложения. По его мнению, категория модальности имеет отношение только к предложению и ни к чему другому [там же]. При этом, всесторонне пользуясь словом «модальность», автор указывает на всевозможные пути его проявления в речи говорящего. (Вместе с тем он не связывает свой труд всецело с категорией модальности.) М. З. Закиев очень полно описывает все уровни языка, где может проявляться модальность: изучение интонации и его видов (идет рассмотрение ударений фразового, логического, модального), видов предложений по цели высказывания, при изучении глаголов (рассматриваются особые словосочетания глагола и имени существительного), при рассмотрении сказуемого как особого элемента. Модальность автор предполагает и при изучении обстоятельств и частиц (обращение и вводные слова).
Д. Г. Тумашева, обращаясь к вопросам морфологии татарского языка, считает правильным выделение модальных слов в отдельную языковую группу и признает их самостоятельными частями речи. Она говорит об объективности и субъективности модальных слов и делит их по данному параметру на две большие группы [Тумашева 1986: 276]:
- модальные слова, употребляемые в составе сказуемого и выражающие объективное отношение высказывающегося к действительности: бар, юк, тиеш, кирәк, мөмкин, ярый, ихтимал, имеш, икән ;
- модальные слова, используемые в качестве вводных слов в предложении и выражающие субъективное отношение говорящего:
ахры, имеш, бугай, бәлки, шаять, ичмасам, әлбәттә .
Ф. Ю. Юсупов также признает модальные слова самостоятельной частью речи и отмечает, что они в основном употребляется для выражения отношения говорящего к действительности. Он распределяет их в две группы [Юсупов 2005: 12]:
-
- модальные слова в роли или в составе сказуемого: бар, юк, мөмкин, икән, ярый, тиеш, инде, соң, кирәк и т. д.;
-
- модальные слова в роли вводных слов: әлбәттә, дөрес, чынлап та, ичмасам, шаять, имеш и т. д.
М. А. Сагитов, Р. Г. Сибагатов, М. В. Зайнуллин предлагают распределение модальных слов согласно их функциональной классификации, так как отмечают главную характеристику модальных слов – их вариативность и зависимость от контекста. Другими словами, модальные слова не могут быть однозначными и в разном контексте их следует понимать по-разному. Но между татарскими лингвистами возникают разногласия при идентификации некоторых слов: союз, или модальное слово, или частица (см.: [там же: 13]).
Эти исследования получают дальнейшее развитие в работах по татарской грамматике, морфологии, стилистике, всесторонне изучаются и углубляются Д. Г. Тумашевой, Ф. Ю. Юсуповым, Р. Г. Минниахметовым, В. Н. Хисамовой и др. Накопленный материал по изучению модальности как особой категории служит основой для дальнейших исследований в данном направлении: это статья И. Ф. Исламовой «Теоретические вопросы категории модальности» [Исламова 2011: 195]; работа Л. Б. Волковой «Сравнительная типология категории модальности немецкого и татарского языков» [Волкова 1988: 48]; статья Г. У. Калимуллиной «Выражение модальности в трансформированных эллиптических предложениях в татарском языке» [Калимуллина 2010: 120]; статья Р. Т. Гильфанова «Лексико-грамматические средства выражения модальности в неродственных языках (на материале немецкого и татарского языков)» [Гильфанов 2004: 140]. Некоторые ученые делают акцент на лексической стороне проявления категории модальности: например, Р. Г. Минниахметов в своем пособии «Модальные слова в татарском языке», детально рассматривает модальность татарских слов, сочетаний слов и выражений, приводя при этом многочисленные примеры [Минниахметов 1999: 84]. Несколько позже появилась еще одна интересная работа – «Глагольная система татарского и английского языков» В. Н. Хисамовой, где автор иллюстрирует примерами случаи употребления и перевода модальных элементов при сопоставительном изучении таких неродственных языков, как татарский и английский [Хисамова 2004: 250]. Эти труды послужили основой для некоторых диссертационных работ по рассмотрению категории модальности в живом языке общения. Например, исследование Р. Р. Ахунзяновой «Эпистимическая модальность и средства ее выражения в английском и татарском языках» [Ахунзянова 2012]. Работы, посвященные категории модальности в татарском языке, свидетельствуют о четкой направленности к рассмотрению и углублению общих знаний путем детального разбора отдельно взятых, вычлененных вопросов, касающихся данной категории.
Следует отметить, что категория модальности очень многогранна в татарском языке. Не существует четкого разграничения модальных слов. Это вызвано тем, что взгляды татарских филологов сильно разнятся: одни признают универсальность категории модальности, другие говорят о модальности только тех предложений, в которых присутствуют модальные слова. Еще одним критерием признания категории модальности в татарском языке можно назвать его непосредственную привязанность к модальным словам. То же самое наблюдаем и в грамматике английского языка, но современные англоязычные лингвисты все больше говорят о различных уровнях проявления модальности. В то же время в татарском языке структурно обозначены не все средства выражения модальности, а существующие привязаны к распределению модальных слов и модальных фраз. Тем не менее просодические и грамматические средства представления модальности в татарском тексте существуют. Многочисленность лексических средств, скорее, является особенностью татарского языка. Из этого следует, что категория модальности всецело относится и к татарскому языку и проявляет себя как полноценная функционально-семантическая категория. Это, в свою очередь, предполагает широкое понимание модальности, которая охватывает просодические, лексическо-семантичес-кие, грамматические, стилистические и фразеологические элементы языка.
Исходя от говорящего лица, модальность о происходящем или происходившем выражает волеизлияние, желание, выражает сожаление и ставит условия. Категория модальности сообщает также о возможности или необходимости какого-либо действия [Хисамова 2015: 92]. Таким образом, категория модальности в татарском языке несет в себе практически все те же функциональные качества, что и категория модальности русского языка. Во многом совпадают и внешние проявления модальности в татарском и русском языках. Если изучать категорию модальности с точки зрения сопоставления русско- го и татарского языков, то можно убедиться, что они имеют немало общих черт. Это вызвано рядом причин, основная из которых, несомненно, география распространения языка: носители татарского языка, как правило, жили по соседству с русскоязычным населением, вследствие чего переживали одни и те же чувства, о чем в дальнейшем будут свидетельствовать схожие элементы волеизъявления, выражения отношения к высказыванию и т. д. Например, когда кто-то не хочет что-либо говорить или выражать свое отношение к чему-либо, про него говорят: «как будто в рот воды набрал». Здесь, несомненно, выражается модальное отношение говорящего, которое базируется на сравнении момента речи с каким-либо жизненным обстоятельством, опытом из прошлой жизни. Задействована модальная частица «будто», которая обозначает схожесть или эквивалентность выполняемого в момент речи действия раннему опыту наблюдения. В татарском языке можно передать словами «авызына су капкан сыман», что в принципе является практически равноценным переводом русской фразы и не несет в себе какого-либо лишнего элемента, лишнего смысла. Выражается модальность теми же самыми путями, что и в русском языке: морфологически (аффиксом -мыни) и лексически (частицей или модальным словом «сыман»). Таких параллельных фраз в русском и татарском языках довольно много. Но прежде чем перейти к сопоставлению сложных языковых категорий, было бы правильно рассмотреть все формы и способы выражения модальности в татарском языке.
Анализируя процесс передачи модальности в татарском языке, следует отметить отношение говорящего к высказываемому, которое передается при помощи интонации. Это основной момент передачи идеи, переживаний автора высказывания своему собеседнику. Булдырабыз бит дуслар! (Мәһдиев, 527). При этом интонация может быть самостоятельной формой или же выражать модальность наряду с какими-либо другими средствами языка (например, лексическими или морфологическими). Фронтовик семьясы аз гына да мохтаҗлык, бик аз гына да ятимлек сизмәскә тиеш! (Мәһдиев, 584).
В татарском языкознании интонация занимает особое место. Она может быть выражена несколькими элементами или частями [Закиев 2002: 11].
-
1. Фраза басымы – фразовое ударение, ударение, которое связывает несколько слов или синтагм вместе, тем самым меняя смысл предложения. Аңа укырга, укырга кирәк! Һәм ул укытучының сөйләгәннәрен йотылып тыңларга кереште (Мәһдиев, 396).
-
2. Пауза – выделяет в предложении отдельные синтагмы или же сами предложения в целом тексте. Благоприятно влияет также на понимание текста, общего смысла и модальности высказываемого суждения. Кичен чәчәк аткан булдың, Ә таңында... Ә таңында инде коел-дың... (Такташ, 133).
-
3. Логик басым – логическое ударение, служит для особого выделения того или иного слова в предложении или же целого предложения в тексте. В зависимости от логического ударения в предложении могут наблюдаться естественные перестроения его составных частей. Главным при этом в предложении остается то слово, на которое падает логическое ударение. Логическое ударение широко используется также для построения отрицательных и вопросительных предложений татарского языка. Үзе матур, Үзе сөйкемле, Үзе усал, Үзе болай бер дә Усал түгел кебек шикелле... (Такташ, 144).
-
4. Тойгы басымы – на русский язык можно перевести как «эмотивное ударение», т. е. целенаправленное выделение той или иной части предложения для создания более правильной атмосферы речи или же выделения какого-либо важного элемента высказывания. Обычно при эмотивном ударении слово в татарском языке удлиняется в силу того, что гласные (обычно первого или последнего слога) произносятся чуть дольше обычного. Кабан , һай, Кабан ! Нинди матур, сихри күл иде бит ул (Ахунов, 133).
-
5. Сөйләм көе – один из особых показателей речи, который можно перевести как «мелодика речи». Неразрывно связан с паузой, логическим и эмотивным ударением и представляет собой конечный продукт их взаимного использования, но продукт более качественный, чем простое их сочетание. Кичер мине, әти!.. Сора минем өчен халыктан!.. (Гобәй, 506).
В зависимости от типа интонация в татарском языке может быть полной, восходящей, нисходящей и смешанной. В зависимости от мелодики мы можем различать изъявительную, противительную, интонацию счета и ожидания.
Следующим и не менее важным способом выражения отношения или модальности в татарском предложении являются модальные слова. О них говорил В. Н. Хангильдин в упомянутом труде «Грамматика татарского языка» и выделил несколько групп модальных слов [Хисамова 1993: 302]. Далее рассмотрим расширенные и детальные подходы современных ученых. Они все построены на научных взглядах теоретиков татарской грамматики, но отличаются подробным анализом и многочисленными примерами. Так, в работе Р. Г. Минниахметова мы видим несколько примеров деления модальных слов на различные классы в зависимости от их семантических качеств, т. е. функции в предложении или живой речи говорящего, в зависимости от происхождения, структурной характеристики модальных слов и т. д. Опираясь на ранние труды А. Н. Кононова, Н. Е. Петрова, М. З. Закиева, автор выделяет несколько аналитических групп модальных слов [Минниахметов 1999: 25].
-
1. Модальные слова и словосочетания, выражающие утверждение или отрицание: әйе – да, бар – есть, имеется, юк – нет, не имеется, шулай – так, шул-шул – именно так, әһә – да . При этом отмечается, что ранее данные слова относились к другим частям речи. Например, « юк, бар » ранее были классифицированы как глаголы, а теперь их правильнее было бы отнести к разряду модальных слов. В зависимости от контекста или ситуации употребления модальные слова данного класса могут выражать различные степени и формы отношений: отрицание, возражение, согласие, несогласие или неспособность лица к какому-либо действию и т. д. Иногда модальные слова могут выступать как полноценные предложения.
-
2. Модальные слова, выражающие проблематическую достоверность, которые обозначают различную степень вероятности, сомнения, неуверенности, предположения, допущения. Сюда можно отнести такие слова: ихтимал – возможно, вероятно; мөгаен – наверное, пожалуй, возможно, может быть; шаять (шәт) – возможно, пожалуй, наверно; бугай – кажется, вроде; күрәсең (күрәмсең) – видимо, очевидно; булса кирәк, булырга кирәк – может быть, должно быть, по-видимому, кажется; башлыча – главным образом, по большей части . Сюда же можно отнести такие единицы (послелоги), как кебек – как будто; сыман, сымак – как будто, кажется; шикелле – как, вроде; төсле – как будто, кажется .
Данные модальные слова очень широко употребляются в татарском языке и охватывают практически всю ткань речи.
Р. Г. Минниахметов, учитывая существующие труды в данном направлении, предложил самую расширенную классификацию модальных слов и сочетаний татарского языка. При этом он обнаружил несколько подходов к классификации: по функции модальных слов, по структуре и по значению [там же: 84]. Наиболее полной и основательной можно признать его классификацию, в которой он опирается на различные оттенки проявления категории модальности. Автор выделяет следующие типы модальных слов и сочетаний.
-
1. Модальные слова, выражающие утверждение и отрицание: әйе, әйедер, әйеме, әйе инде, бар, бардыр, бармы, бар инде, юк, юктыр, юкмы,
-
2. Модальные слова, выражающие проблематическую достоверность: бәлки, шаять, бугай, имеш, ихтимал, ахрысы, бәлки, мөгаен, янәсе, икән, күрәсең, булса кирәк, сыман, кебек, төсле, әйтерсең, гүя. Без, бәлки , күрешә алмабыз; без, бәлки , мәңгегә аерылганбыздыр... (Ибраһимов, 499). Ул мине һөҗүмнән курка дип уйлаган, ахры , - аяк басуын йомшарта төшеп, яныма ук килде дә, мөмкин кадәр йомшак, ихлас чыгарырга тырышылган бер тавыш белән сүз башлап... (Ибраһимов, 200) .
-
3. Модальные слова, выражающие категорическую достоверность: әлбәттә, билгеле, дөрес, чыннан да, чынлап та, һичшиксез, баксаң-торсаң, һичсүзсез, хак, рас, баксаң, асылда, гадәттә, табигый, дөресе, нигездә. Ул бит мужик малае түгел – ул мәхмүд, ул шәкерт. Аңа андый азгыннар җыенына бару, әлбәттә, әлбәттә, килешми (Ибраһимов, 277). Юк, ихтимал гына түгел, булачак та. Шөбһәсез булачак... (Ибраһимов, 245) . Шөбһә юк , аның аты барын да узачак, шул сылу кара айгыр һәм аның иясе быел бөтен тирә якларга дан чәчеп, барын да аста калдырачак! (Ибраһимов, 252) .
-
4. Модальные слова, выражающие значения долженствования и необходимости: кирәк, тиеш, зарур, зарури, лазем, фарыз, мөмкин, имеш, ихтимал. Боларның бере дә яңа түгел, шуңа күрә берсе дә аңарда хәйрат тудырмаска тиеш иде... (Ибраһимов, 434). Аннары, билгеле, тимер көрәк, сәнәк һәм башкалар кирәк . Аларын инде болай да беләсез булыр (Фәттах, 343).
-
5. Модальные слова, выражающие значение возможности и невозможности: мөмкин, ярый, мөмкин лә, мөмкин ләбаса, мөмкин бугай, ахры, күрәсең, мөмкин түгел, ярамый. Моннан күчәсе иде, күчәсе иде! – дип уйлана, аз гына кәеф-сезләнгән саен: – ...Җан бирәм, күрәсең , инде, ходаем, – дип авыр кайгыга төшә иде. Яшен аны коткарды (Гобәй, 159) . Иген сугылса, атасы да бирер, анасы да актык бер тиеннәрен аямас иде. Болар белән генә җитмәсә, өсәктән арткы юл белән кибетчегә илткәләргә дә булыр иде. Ә хәзер берсе дә мөмкин түгел : сукмаган көлтәне сатып булмый; келәткә керсәң, өсәкләрдә тычкан башы ярылыр (Гобәй, 402) .
-
6. Модальные слова и словосочетания, выражающие квалификацию отношения содержания какого-нибудь отрезка речи к общей последовательности мысли: гомумән, кыскасы, ни-
- һаять, мәсәлән, ягъни, алайса, диген, болай, ахыр килеп, азак килеп, соң килеп, инде килеп, хәер, югыйсә, җитмәсә, ичмасам, һич булмаса, бул-маса, димәк, беренчедән, икенчедән, өченчедән, монысы бер, монысы ике, әйтик, аның каравы, тузга язмаганны, килешмәгәнне, булмаганны, һич югы, юкны, ни пычагыма. Ихсан һаман үзенекен тукый. Ичмасам, башкалар кебек акырып кереп әтисенә әләкләсен иде (Яруллин, 205). Беренчедән, берничә көн инде бензин булмады, икенчедән, бүген шимбә көн: бакча-чылар үз бакчаларына машиналарында элдертә (Яруллин, 211). Атаң өчен бер тамчы да кал-дырмагач, ни пычагыма кирәк син! (Фәттах, 94).
-
7. Модальные слова, выражающие внезапность припоминания, догадки, присоединения по ассоциации: әйткәндәй, дигәннән, димәктән, әйтәм аны, әйтәм җирле, әйтәм, минәйтәм, кем әйтмешли, тиле кеше әйтмешли. Ни гаҗәп , мин артык карышмадым. Күңелемдә аңлатып бирмәслек каршылыклы уйлар туды (Яруллин, 347). Димәк , сөяркәсе? – диде ул үз-үзенә, мон-дый нәрсәгә һич тә ышанасы килмичә. Димәк, чынга чыкты, моңа кадәр колакка чалынгалап калган төрле имеш-мимешләр дә, бүген көндез кибеттәге очрашудан соң туган сизенүләр дә – барысы да чынга чыкты? (Фәттах, 326).
-
8. Модальные слова, выражающие высказывание, приписанное говорящим другому лицу: имеш, янәсе, ди, диләр, диген. Сине ул өеңә дә китереп куя, алып та китә. Ә ул белми, имеш (Яруллин, 221). Пәйгамбәр! – диде Илгиз, үзенә-үзе каршы килеп. – Нинди пәйгамбәр булсын ул. Ислам-иблис диген ! (Фәттах, 80).
-
9. Модальные слова и словосочетания, применяемые для привлечения внимания, обращения или побуждения. Они представляют собой призыв, просьбу или желание: зинһар, гафу, гафу ит, гафу итегез, рәхим ит, рәхим итегез, беләсеңме, беләсезме, аңлыйсыңмы, аңлыйсызмы, кара, карагыз, күр, күрегез, берүк, куй, куегыз, җитте, җитәр, карале, әйдәле, я. Йә , ярый, кабат очрашканга кадәр. Ә бусын әниеңә бирерсең (Яруллин, 219). Гафу, гөлкәем, – диде Альфред, кинәт юашланып. – Мондый матур-лыктан башым әйләнеп китте (Яруллин, 329). Зинһар, кызым, үзеңне тыныч тотарга тырыш (Тукай, 243).
-
10. Модальные слова и сочетания, выражающие эмоциональное отношение к действительности: бәхеткә каршы, бәхеткә күрә, бәхеткә, кызганычка каршы, кызганыч, кызганычка, миңа дисә, миңа димәгәе, кирәгем исә, ачуым килмәгәе, гаҗәпкә каршы, гаҗәпкә, бәхетсезлеккә каршы, бигайбә, агай, кодагый, абзый, малай, туган, апаем. Минемчә, иптәшләр... ике тәгъдим булды... – диде ул, авыз эчендә ботка кайнатып
юк инде, юк түгел, шулай, шулайдыр, шулаймы, шулай инде, шул-шул, әһә, мөмкин, мөмкиндер, мөмкинме, мөмкин түгел, кирәк, кирәктер, кирәкме, кирәк түгел. Юк , улым, – ди әнкәсе, – болай гына ачтым... (Яруллин, 180). Әйе, минем кебекләр юктыр. Үз әти-әнисе өеннән куган кызлар күп булмас (Яруллин, 343).
(Фәттах, 166). Кесәсеннән , үч иткәндәй , баягы кебектагын гел иллелекләр генә чыкты (Фәттах, 14). Карале, Барый туган , баш белән уйлап караганда... – диде Галимулла, бригадирга якын-рак килеп (Фәттах, 340).
Пространство модальных слов татарского языка представляет собой различные структуры, которые могут быть образованы совершенно разными способами. По классификации современных ученых, занимающихся изучением проявления категории модальности в татарском языке, модальные слова могут быть представлены такими частями речи:
-
- имена существительные: ихтимал, шайтан, пычагым, раббым и т. д.;
-
- глаголы: күрәсең, әйтәм, куй, куегыз, яз-маганны, булмаса и т. д.;
-
- имена числительные: бердән, икенчедән, өченчедән и т. д.;
-
- местоимения: миңа, аннан и т. д.;
-
- имена прилагательные: дөрес, билгеле и т. д.;
-
- наречия: һичшиксез, һичсүзсез, шөбһәсез и т. д.;
- послелоги: кебек, шикелле, сыман, төсле, бәлки и т. д. [Сафиуллина 1999: 52].
Изучая татарский язык, его проявления в различных жизненных ситуациях, исследователи отмечают тот факт, что слова в татарском языке могут переходить из нейтрального разряда в разряд экпрессии или же, другими словами, могут стать модальными [там же: 117]. Данный факт отмечали и татарские поэты. Г. Тукай в своих сочинениях также говорил о том, что слова в зависимости от контекста, от факта употребления могут представлять широкий круг различных смысловых красок (Тукай, 177).
Ф. С. Сафиуллина при анализе категории модальности внутри контекста рассматривает различные оттенки синонимического ряда слова «киреләнү», которое может быть переведено как «сопротивление», «нежелание выполнять что-либо» и т. д. В основном глагол употребляется по отношению к детям, которые «отказываются что-либо выполнять». Используя же в тексте синонимы данного слова «үҗәтләнү, чыгымчылау, үзсүзләнү, кәҗәләнү», мы лишь меняем модальный окрас предложения. При этом само объективное значение глагола не меняется. Например, «үҗәтләнү» – это тоже отказ, но в татарском языке в зависимости от контекста употребляется в позитивном значении (имеет значение «не сдаваться, достигать цели, преодолевая трудности»). Точный смысл можно понять лишь в предложении, т. е. в контексте: «Һаман яманлап тору-ларына карамастан, ул тагы да үҗәтләнебрәк эшләде, алга барудан туктамады. – Несмотря на то, что все пытались выставить его в нехорошем свете, он не сдавался, наоборот, твердо стоял на своем, двигался дальше (пример и перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). Здесь татарское слово «үҗәтләнебрәк» переводится как «не сдаваться», т. е. «настоять на своем», и раскрывает личность, о которой говорится в предложении. Следующий синоним, «кәҗәләнү», больше просторечный и обозначает «бессмысленное сопротивление», «сопротивление или отказ, ничем не обоснованный». Әнисе нәрсә генә әйтеп кара-мады, ә кыз бала тик кәҗәләнә бирде, бер сүзен генә дә тыңламады. – Все усилия матери успокоить дочь были тщетны, она ничего не хотела слышать и продолжала хныкать (пример и перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г.). Здесь мы для перевода употребили слово «хныкать» вместо татарского «кәҗәләнү», так как маленькие дети, которые не слушаются или сопротивляются, обычно «хнычут» и противятся. Иногда, чтобы передать полный смысл модально окрашенных слов татарского текста в русском языке, нам необходимо описать слово, подбирая самые близкие по значению эквиваленты.
Порой даже замена слов в татарском предложении ведет к появлению модального значения всего отрывка. Это хорошо описывает Ф. С. Сафиуллина на основе материала, приведенного С. М. Ибрагимовым в буклете «Газета теле» («Язык газеты»). Автор газетной статьи при попытке написать интересный и юмористический текст описания деятельности проверяющего из района заранее подменяет привычные нам слова странными синонимами. Например, вместо слова «котлета» пишет «мясное изделие», вместо слова «лошадь» – «сила тяги» и т. д., тем самым добиваясь модальности всего отрывка. Автор пишет: Агымдагы җәйнең гадәттәге бер иртәсе иде. Сәхипҗамал апа үзенең мул һәм югары сый-фатлы сөт бирә торган мөгезле эре терлеген саварга да өлгермәгән иде эле, Галәү агай җигелмә инвентарьга җирән йонлы тарту көчен җигеп, астына тупас терлек азыгы белән яшел масса салып, халык яшәү пунктына чыгып китте. Вакытны тыгызлау максатларында, ул җигелмә инвентарьның тәгәрмәчләренә майлау материалы да сөртеп тормады .
Безнең юлчы, район үзәгенә килеп туктау белән, тарту көчен дәвалау учреждениесы яны-на бәйләп куйды да үзенә йөкләнелгән эшләрне тиз рәвештә үти башлады. Башта ул сәүдә челтәренә кереп чыкты. Аннан соң культура-агарту йортына барды. Соңгысында үзешчән түгәрәк әгъзаларының чираттагы репетициясе җәелдерелгән иде. Өстенә тегелгән кием кигән, эшләпә һәм галстуктагы бер үзешчән мөдирнең ниндидер киңәшмәдә икәнен астына сызып
әйткәч, Галәү агай, тоткарлыксыз, бу объектны калдырып чыгып китте. Ул башка бик күп аппаратларда, әллә нинди точкаларда булды... Эш арасында гына район капкалап алу пунктына кереп, өч йөз грамм он изделиесе белән бер порция ит изделиесе, ике данә яшелчә, өч данә фрукт ашап алды. Азактан бер бутылка алко-гольсез эчемлек эчте [Сафиуллина 1999: 122].
Простые слова заменены простыми сочетаниями, которые в обычном контексте ничего собой не представляют. Однако, будучи в одной логической цепи, создают юмористический отрывок, модально окрашенный текст.
В татарском языкознании известно широкое употребление слов в переносном значении. Например, слово « сугу » можно перевести как « бить, избивать, ударять ». Это слово описывает также ситуацию, когда кто-либо что-то быстро съедает. Например: Сугып кына кара миңа, күрмәгәнеңне күрсәтәм мин синең! – Только попробуй меня ударить, я тебе покажу! (пример и перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г. ) Здесь значение прямое, а вот другое предложение с тем же словом: Суга гына бу кыз бала йөзем җимешен, чәйнәп тә өлгерә алмый кала бит . – Ну и уплетает эта девочка изюм, аж не успевает прожевывать (пример и перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г. ). Слово « сугу » в русском языке передается словом «уплетать».
Особую роль в формировании модальности татарской речи играет целенаправленное сравнение людей с различными животными по поведению или внешнему виду. При этом высмеиваются какие-либо черты человека либо указываются какие-либо уникальные стороны предмета речи. Бигрәк елан инде үзең, бер дә кешегә яхшылык булсын димисең . – Ну и змея же ты, однако, нет чтоб человеку добра пожелать (пример и перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г .). Кырмыска белән бер бу малай, һич тик тора белми . – Этот малый прям как муравей, никак на месте не устоит (пример и перевод наш. – Н. М., И. А., А. Г .).
Модальность в татарском языкознании в основном изучалась как лексико-грамматическая категория. Тем не менее современные реалии требуют более широкого подхода к языковой категории модальности, так как модальность охватывает практически все слои языка и выходит на уровень функционально-семантической категории. В татарском языке можно выделить просодические (указывающие на интонационную составляющую: ритм, тембр, повышение, понижение голоса, восклицание, а также фразовое ударение, пауза, эмотивное ударение, логическое ударение, мелодика речи), лексическо-семанти-ческие (ряд слов с модальным значением, которые в татарском языке распределены в много- численные подгруппы и насчитывают основной пласт модальности), грамматические (ряд грамматических структур: формы утвердительных и отрицательных предложений, сослагательное наклонение и другие), стилистические (стилистические средства языка, относящиеся к эмоционально-оценочной модальности) и фразеологические (фразеологические обороты) средства выражения модальности. Вместе с тем необходимо отметить, что языковая категория модальности в татарском языкознании часто рассматривается в рамках общих лингвистических исследований. Что касается теоретической литературы, раскрывающей модальность в широком понимании, то ее крайне мало, что указывает на необходимость проведения более масштабных исследований в данном направлении с использованием при этом более современных сравнительно-сопоставительных и прикладных подходов в анализе языковых единиц.
Associate Professor in the Department of Foreign Languages in International Relations Kazan Federal University
-
18, Kremlevskaya st., Kazan, 420008, Russian Federation. narkizmoullagaliev@mail.ru
SPIN-code: 1180-3642
ResearcherID: M-3052-2013
Ildar G. Akhmetzyanov
Associate Professor in the Department of Foreign Languages in International Relations Kazan Federal University
-
18, Kremlevskaya st., Kazan, 420008, Russian Federation. ildar-rashit@yandex.ru
SPIN-code: 1596-0724
ResearcherID: M-5591-2013
Almira K. Garaeva
Associate Professor in the Department of Foreign Languages in International Relations Kazan Federal University
-
18, Kremlevskaya st., Kazan, 420008, Russian Federation. almiragaraeva09@yandex.ru
SPIN-code: 4493-0111
ResearcherID: N-1751-2013
Submitted 23.08.2019
Список литературы Особенности выражения модальных значений в татарском языке
- Ахунзянова Р. Р. Эпистемическая модальность и средства ее выражения в английском и татарском языках: дисс. … канд. филол. наук. Казань, 2012. 214 с.
- Волкова Л. Б. Сравнительная типология категории модальности немецкого и татарского языков. Казань: КГПИ, 1988. 40 с.
- Гильфанов Р. Т. Лексико-грамматические средства выражения модальности в неродственных языках (на материале немецкого и татарского языков) // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казанского ун-та: труды и материалы. Казань, 2004. С. 140-141.
- Закиев М. З. Хәзерге татар әдәби теле. Казан: Татар китап нәшрияте, 2002. 336 б.
- Исламова И. Ф. Теоретические вопросы категории модальности // Научный Татарстан. 2011. №4. Гуманитарные науки. С. 195-198.
- Калимуллина Г. У. Выражение модальности в трансформированных эллиптических предложениях в татарском языке // Татарская культура в контексте европейской цивилизации: материалы междунар. науч. конф. Казань, 2010. С. 120-122.
- Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 446 с.
- Минниахметов Р. Г. Модальные слова в татарском языке: учеб. пособие. Уфа: Башкир. гос. ун-т, 1999. 84 с.
- Мифтахова И. Г. Развитие грамматической теории в татарском языкознании. Самостоятельные части речи (по татарским грамматикам XIX-ХХ вв.): автореф. дисс.... канд. филол. наук. Казань, 1998. 29 с.
- Муллагалиев Н. К. Модальность художественного текста (на материале английского и татарского языков): дисс. … канд. филол. наук. Казань, 2016. 199 с.
- Сафиуллина Ф. С. Хәзерге татар әдәби теле. Лексикология (югары уку йортлары студентлары өчен). Казан: Хәтер нәшрияте, 1999. 52 б.
- Тумашева Д. Г. Татарский глагол: опыт функционально-семантического исследования грамматических категорий. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1986. 189 с.
- Хангилдин В. Н. Татар теле грамматикасы (морфология һәм синтаксис). Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1959. 641 б.
- Хисамова В. Н. Глагольная система татарского и английского языков: сопоставительный анализ в аспекте изучения английского языка на базе родного (татарского) языка. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. 250 с.
- Хисамова В. Н. Проблемы истории татарского языка по англоязычным (и частично немецко-язычным) источникам: автореф. дисс. … канд. филол. наук. Казань, 1993. 24 с.
- Юсупов Р. А. Соотношение разноструктурных языков и вопросы перевода: на материале русского и татарского языков: учеб. пособие для студ. филол. ф-тов. Казань: КГПУ, 2005. 225 с.