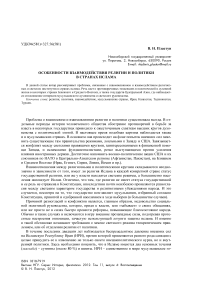Особенности взаимодействия религии и политики в странах ислама
Автор: Пластун Владимир Никитович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В данной статье автор рассматривает проблемы, связанные с взаимовлиянием и взаимодействием религиозных и светских институтов в странах ислама. Речь идет о противоречивых тенденциях в политической и духовной жизни в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока, а также государств Центральной Азии, где наблюдается столкновение интересов мусульманского духовенства и светского руководства.
Религия, политика, взаимодействие, мусульманские страны, иран, казахстан, таджикистан, турция
Короткий адрес: https://sciup.org/14737788
IDR: 14737788 | УДК: 94(581)+327.56(581)
Текст научной статьи Особенности взаимодействия религии и политики в странах ислама
Проблема о взаимосвязи и взаимовлиянии религии и политики существовала всегда. В отдельные периоды истории человеческого общества обострение противоречий в борьбе за власть в некоторых государствах приводило к ожесточенным схваткам высших кругов духовенства с политической элитой. В настоящее время подобная картина наблюдается также и в мусульманских странах. В основном она происходит на фоне попыток внешних сил заменить существующие там правительства режимами, лояльными к Западу и США. Завязывается конфликт между светскими правящими кругами, заинтересованными в финансовой помощи Запада, и исламскими фундаменталистами, резко выступающими против усиления влияния иностранных держав. Достаточно напомнить военно-политические акции США и их союзников по НАТО в Центрально-Азиатском регионе (Афганистан, Пакистан), на Ближнем и Среднем Востоке (Ирак, Египет, Сирия, Ливия, Йемен и пр.).
Взаимоотношения между религиозными и политическими кругами складываются неоднозначно в зависимости от того, имеет ли религия Ислама в каждой конкретной стране статус государственной религии, или же у власти находятся светские режимы, а большинство населения исповедует Ислам. Отмечено, что там, где религия не имеет статуса государственной и ее роль не отражена в Конституции, впоследствии почти неизбежно проявляются разногласия между светским характером государства и религиозными убеждениями народа. И это случается, несмотря на то, что государство возглавляет мусульманин, избранный согласно Конституции, принятой и одобренной населением в ходе выборов (в большинстве случаев).
Причиной разногласий и конфликтов является, главным образом, недовольство социальной политикой руководства, которое, придя к власти, или «забывает» о своих обещаниях, или же просто не в силах быстро провести реформы, повышающие благосостояние народа. Обычно в таких случаях и включаются в игру внешние прозападные силы, подогревая протестные настроения оппозиции, зачастую использующей лозунги защиты ислама. И именно в такой обстановке возникают требования о замене светского режима теократическим правлением, или об отделении религии от политики.
В течение последних двадцати лет наблюдается беспрецедентное давление внешних сил на Исламскую Республику Иран (ИРИ), против которой применяются разного рода санкции с целью принудить ее к изменению не только своего внешнеполитического курса, но и внутренней политики. Здесь необходимо пояснить, что в Исламе имеются два основных течения ( масхаба ) – сунниты (около 80 %) и шииты. ИРИ – единственное в мире мусульманское го-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 4: Востоковедение
сударство, в котором, согласно предписаниям шиитского масхаба, верховным властителем государства может быть только представитель высшего духовенства ( рахбар ), назначаемый из числа наследников основателя исламской религии – Пророка Мохаммада. У суннитов же исторически глава государства должен избираться из числа наиболее достойных претендентов. Он же осуществляет и светское и религиозное руководство 1.
Лидер исламской революции в Иране имам Хомейни совершенно четко заявлял: «Ислам является политико-религиозным учением, в котором политика дополняет богослужение, а богослужение дополняет политику; в Исламе больше политических предписаний, чем религиозных, клянусь Богом, что весь Ислам – это политика!; исламская религия носит политический характер, что все в ней связано с политикой, даже богослужение…» и т. д. [Изречения…, 1995. С. 17].
В своем «Религиозном и политическом завещании» имам Хомейни говорит: «Все мы должны понимать, что именно политические (курсив мой. – В. П. ) мероприятия, помогающие мусульманам, особенно шиитам, осознать свою идентичность, способствуют единству мусульман» [Имам Хомейни, 1999. С. 17]. Иначе говоря, он совершенно недвусмысленно акцентировал внимание на религиозном аспекте и завещал мусульманам («особенно шиитам») осознать свою идентичность в ходе именно политической деятельности.
Президент ИРИ М. Ахмадинежад, выступая недавно на церемонии закрытия конференции «Исламское пробуждение» (Тегеран, 18 сентября 2011 г.), вновь подчеркнул ведущую роль религии в политике. Он сказал: «Мусульманские политики должны стать авангардом движения Пробуждения. Истоком Пробуждения – и в традиционно мусульманских странах, и в иных странах мира (курсив мой. – В. П. ) – является сущность религиозного государства» 2. Как видим, речь идет не только о странах Ислама, но и о мировом сообществе.
Другую точку зрения выразил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вступивший в полемику с запрещенным в Египте в 60-х гг. прошлого века, а ныне легально действующим движением «Братья-мусульмане». В июне 2011 г. комиссия по политическим партиям Египта официально зарегистрировала Партию свободы и справедливости (ПСС), созданную этим движением. После свержения правления президента Хосни Мубарака началась полемика «между либеральными и исламскими группами относительно вопроса государственного устройства Египта». Во время своего визита в Египет Р. Эрдоган, ссылаясь на опыт Турции, заявил, что Египту тоже необходима светская конституция. Свою позицию он объяснил так: «Светскость Конституции в Турции проявляется равным отношением государства ко всем религиям, а именно: “Светскость вовсе не означает атеизм”; “Я, Реджеп Тайип Эрдоган, не только светский человек, но и мусульманин. Однако я премьер-министр светского государства. В светском государстве люди имеют свободу выбора: быть верующим или же нет”» 3.
ПСС Египта отреагировала в том смысле, что «невозможно применить политическую модель одной страны по отношению к другой».
Сейчас Турция идет еще дальше. Как сообщают турецкие СМИ, с 1 октября 2011 г. в этой стране вступает в силу Закон о судах, принятый 12 января того же года парламентом страны, согласно которому отныне в судебных клятвах больше не будет слова «Аллах». Если раньше в судебной клятве присутствовало словосочетание «Клянусь Аллахом и честью», то теперь оно заменено на фразу «Клянусь честью, достоинством и всеми священными ценностями» 4.
Итак, перед нами пример того, как в двух государствах, подавляющее большинство населения которых исповедует религию Ислама, интерпретируется вопрос о взаимоотношении религии и политики.
Особое место в нашей попытке исследовать указанную проблему занимает мнение убитого мятежниками вождя ливийской революции, автора «Зеленой книги» Муаммара Каддафи. Поясняя свое видение соотношения религиозного и политического факторов, он, как выходец из племенного общества, полагал, что «подлинным Законом общества является либо обычай, либо религия». «Религия, – говорил М. Каддафи, – включает в себя обычай, а обычай есть выражение естественной жизни народов. Следовательно, религия, включающая обычай, есть утверждение естественного закона. Законы, не базирующиеся на религии и обычаи, специально создаются человеком против человека и в силу этого неправомерны» [1989. С. 51, 54].
По мнению М. Каддафи, политику должен определять народ, основываясь на своих обычаях и религиозных верованиях. Это его утверждение можно рассматривать как отражение взгляда представителя племенного общества, пытающегося приспособить обычное право к современным условиям техногенной цивилизации, в которой мы сейчас находимся.
Неопределенность ситуации отражается сегодня, к примеру, в некоторых центральноазиатских странах в рамках дискуссий о соотношении религии и политики. В преддверии годовщины терактов 11 сентября 2001 г. на территории США казахстанская народнодемократическая партия «Нур Отан» организовала недавно видеоконференцию по «афганской проблеме», где обсуждался вопрос о возможной угрозе исламского экстремизма для государств Центральной Азии. В мероприятии принимали участие также представители Москвы, Бишкека (Кыргызстан) и Вашингтона (США). В ходе конференции российский историк-востоковед, профессор Виталий Наумкин резонно, по-моему, заявил: «Я так и не услышал ответ: а чего же хотят в Центральной Азии, какие государства они хотят иметь – светские, исламские или с умеренным исламом? Мы знаем, чего хочет элита, но не народ. И почему все больше молодых людей из Центральной Азии едут в северо-западную пограничную провинцию Пакистана и примыкают к талибам – тоже ответа нет».
В ответ представитель партии «Нур Отан» Е. Карин заметил, что ему трудно отвечать за все государства региона, но, по его мнению, в Казахстане уже фактически построили государство, которое хотели. Далее он объяснил: «То, что иногда возникает вопрос относительно хиджаба или каких-то других религиозных моментов, языка, не означает, что здесь в обществе есть какие-то серьезные, непреодолимые, глубокие противоречия, сомнения в том, то ли государство мы построили или мы хотим построить какое-то другое. Из этих маленьких дискуссий и проблем не возникает глобального вопроса – какое государство мы хотим построить, правильным ли мы путем идем или мы хотим отказаться от какой-то сложившейся системы» 5.
Отметим, что подавляющее большинство коренного населения Республики Казахстан исповедует религию Ислама, хотя в Конституции страны отсутствует статья о религиозной принадлежности.
Более или менее внятно свою точку зрения озвучил руководитель Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) М. Кабири. Он считает, что в настоящее время для Таджикистана «президентская форма правления более приемлема». «Однако, – отметил он, – необходимо ограничить полномочия президента, расширить полномочия премьер-министра и парламента. Президентские республики в регионе (в Средней Азии), по сути, превратились в монархии». М. Кабири полагает, что в свое время «необходимо было сосредоточить власть в одних руках для объединения нации», а сейчас «правительству необходимо осознать, что события, произошедшие на Ближнем Востоке, могут повториться в Центральной Азии, в том числе в Таджикистане» 6.
Следовательно, исламские авторитеты Таджикистана обходят вопрос о легитимности или нелегитимности светского правления, его одобрении таджикскими мусульманами или осуждении. Они просто предлагают «урезать» власть президента во избежание превращения его в диктатора.
Далее. Если рассматривать взаимовлияние религии и политики несколько шире, то нельзя не обратить внимания на эту проблему в области внешней политики. Известный российский исследователь в области геополитики А. Дугин, например, считает, что, несмотря на различие в характере власти, стратегические интересы Ирана и России совпадают «по всем основным зонам, представляющим для обеих стран жизненный интерес». В частности, оба государства «заинтересованы в том, чтобы Средняя Азия, Кавказ и Ближний Восток были свободны от американского военного присутствия. Кроме того, для Ирана и России чувствительно наличие в регионе повышенной активности радикального ислама салафитского толка. Это касается и Афганистана». В Средней Азии и в Афганистане Россия и Иран взаимодействуют с одними и теми же силами и режимами.
Касаясь непосредственно религии, А. Дугин высказывает мнение, что «иранский шиизм никак не влияет на мусульман России, состоящих почти целиком из суннитов… Поэтому иранский фактор нейтрален, и никакой опасности подпитки исламского радикализма с этой стороны не исходит».
А. Дугин приходит к следующему выводу: «Все факторы подталкивают нас к тому, чтобы заключить с Тегераном тесный и надежный стратегический альянс на всех уровнях – в политике, экономике, военной сфере, энергетике и т. д. Вместе Россия и Иран превращаются в мощнейший геополитический полюс, способный многократно усилить контроль над огромной территорией Евразии» 7.
Таким образом, высказывается предложение абстрагироваться от светского или религиозного характера власти и обратить внимание на общность интересов, выстраивая в Азии союз для борьбы с угрозой американского военного присутствия и радикальных исламистов.
Отметим, что высказанное несколько выше мнение А. Дугина совпадает с точкой зрения Посла ИРИ в России Сейеда Реза Саджади, который в одном из интервью заявил: «Наша принципиальная позиция сводится к тому, что наличие иностранных контингентов в исламских странах – недопустимо. Это не приносит ничего, кроме напряженности». И далее: «Россия вскоре поймет, что Запад – ненадежный союзник. Это видно уже сейчас по многим аспектам, например по вопросу о членстве России в ВТО, по вопросам глобальной ПРО и так далее» 8.
Президент Института Ближнего Востока Е. Сатановский недавно обвинил Турцию в том, что она «становится новой Оттоманской империей в блоке с подпирающими ее монархиями Персидского залива». И далее: «Сегодня ясно, что ислам как политическое явление фактически победил на Ближнем и Среднем Востоке. Светские режимы доживают последние дни. Суннитский политический ислам уже в ближайшие годы возобладает в регионе. Далее нео-османисты будут бороться с Ираном, сводить счеты с Израилем» [Турецкий марш, 2011. С. 2].
Заявление, по-моему, очень категоричное и «скоропалительное».
В целом, отношение к статусу государственного устройства (религиозный или светский режим) совсем не выглядит столь однозначным. Представители мусульманской общины высказывают различные точки зрения, исходя из обстановки, сложившейся на данный момент в той или иной стране. Кроме того, в самой умме (мировой исламской общине) постоянно идут конфликты, в основе которых лежит борьба за влияние как в области решения внутренних проблем, так и в международных делах.
Тем не менее политизация Ислама становится все более явной. Впрочем, религия всегда была связана теснейшими узами с политическими деятелями, которые не могли обойтись без «освящения» (хотя бы формального) своих действий со стороны верховного духовенства, будь то суннитское или шиитское направление Ислама. Политические лидеры, в свою очередь, не могли обойтись без поддержки религиозных авторитетов, всегда имевших неоспоримое влияние на народные массы и в первую очередь на маргинальные слои населения.
Вместе с тем в настоящее время отмечается расширение и углубление прямых и опосредованных связей руководителей светских государств с влиятельными американскими и западными политическими кругами. Эта тенденция в значительной степени объясняется их стремлением заручиться поддержкой мировых держав в противостоянии с воинствующими исламистскими режимами, которые ощутимо набирают силу. Светские деятели чувствуют опасность исламизации и зыбкость собственных позиций, оказываясь беспомощными при решении накапливающихся социально-экономические проблем в своих странах.
Запад и США, анализируя накаляющуюся обстановку, стараются маневрировать на местном и международном уровнях, прибегая как к прямым угрозам, так и к уступкам при решении тех или иных проблем, не упуская, естественно, основной цели – сохранения своего доминирующего влияния на расстановку сил в мировом масштабе.
На этом фоне представляет интерес дискуссионный анализ глобальных процессов в регионах Ближнего и Среднего Востока, представленный азербайджанскими политологами Зардуштом Ализаде и Расимом Агаевым 9. Первый высказывает опасение, что «скоро мы увидим падение режимов в Сирии, а потом в Иране, и таким образом США возьмут под контроль всю нефтегазовую отрасль Ближнего Востока в свои руки». Второй уверен, что Иран в случае смены власти поменяет свои внешнеполитические ориентиры на проамериканские и тогда «американцы продвигаются вплотную к границам Южного Кавказа со всеми вытекающими отсюда последствиями». Он же считает, что «арабские революции» являются «частью геополитического мегапроекта, реализуемого Западом. Речь идет о контроле над углеводородными запасами, стратегическими транспортными коридорами, большими регионами, которые более всего интересуют США и весь Запад».
Различие во взглядах названных политологов заключается в том, что З. Ализаде видит в расширении фактического присутствия США и НАТО на Южном Кавказе угрозу в первую очередь для Китая, который получает 90 % углеводородов из этого региона, и Ирана. А Расим Агаев убежден, что главная цель – «не Иран, а Россия».
Как бы то ни было, но главный принцип внешнеполитического курса США – протекционизм и усиление попыток своего доминирования за последние пятьдесят лет не изменился.
В принципе, для населения любой страны, видимо, не так уж важно, находится ли у власти светский или исламский режим. Решающим доводом в пользу того или иного статуса государства является решимость его руководства действовать в интересах своего народа и безопасности международной обстановки.
FEATURES OF THE INTERACTION OF THE RELIGION AND POLITICS IN THE MOSLEM COUNTRIES