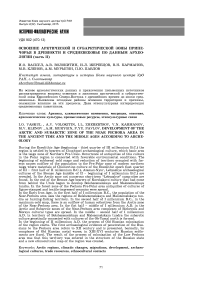Освоение арктической и субарктической зоны Припечорья в древности и средневековье по данным археологии (часть II)
Автор: Васкул И.О., Волокитин А.В., Жеребцов И.Л., Карманов В.Н., Кленов М.В., Мурыгин А.М., Павлов П.Ю.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Рубрика: Историко-филологические науки
Статья в выпуске: 2 (22), 2015 года.
Бесплатный доступ
На основе археологических данных и привлечения письменных источников рассматриваются вопросы освоения и заселения арктической и субарктической зоны Европейского Северо-Востока с древнейших времен до эпохи средневековья. Выявлены исходные районы освоения территории и причины, оказавшие влияние на эти процессы. Дана этнокультурная интерпретация средневековых памятников.
Арктика, климатические изменения, миграции, освоение, археологические культуры, промысловые ресурсы, этнокультурные связи
Короткий адрес: https://sciup.org/14992755
IDR: 14992755 | УДК: 902
Текст научной статьи Освоение арктической и субарктической зоны Припечорья в древности и средневековье по данным археологии (часть II)
2. Освоение арктической и субарктической зон Припечорья в эпоху энеолита-бронзы – средневековья *
В эпоху энеолита – бронзы (III – начало I тыс. до н.э.) начинается новый этап освоения арктической и субарктической зоны Припечорья и прилегающих к ней районов Большеземельской и Мало-земельской тундр. К энеолитическому периоду (III – первая пол. II тыс. до н.э.) относятся древности нео-энеолитической чужъяельской археологической культуры (далее АК), памятники которой на среднем этапе ее развития (начало – третья четв. III тыс. до н.) были распространены в бассейне Мезени, Печоры, Большеземельской тундре. Появление памятников этой культуры в Заполярье связано с благоприятными климатическими условиями, благодаря которым лесная зона была распространена вплоть до побережья Баренцева моря [1]. Известны чужъяельские поселения со стационарными наземными и углубленными в землю жилищами и большими коллекциями вещевого инвентаря (Нерчей II, Пижма II, Ружникова, Колва-вис 25) и временные стоянки с очень небольшим количеством материала (Ортино, Море-ю) [1]. Основные находки – керамика, каменный инвентарь. Глиняная посуда типичных чужъяельских форм декорирована ямками, гребенчатым штампом. Отличительной особенностью тундровой керамики является применение фигурнозубого и сотового орнамента, отсутствующего на Мезени. Аналогии подобному орнаменту уводят, по мнению В.С. Стоколоса, к культурам Западной Сибири и Зауралья. Каменный инвентарь представлен кремневыми скребками различной формы, комбинированными орудиями, ножами, скобелями, проколками, наконечниками стрел, сланцевыми топорами, долотами, пилами. Отличия от кремневого инвентаря мезенских памятников проявляются в появлении поздних форм наконечников: листовидных, треугольных, треугольночерешковых (?)[1]. Памятники последнего третьего этапа чужъяель-ской АК в арктической и субарктической зоне При-печорья отсутствуют, что связано с начавшимся суббореальным похолоданием. По этой же причине неизвестны в указанном районе и находки, относящиеся к чойновтинской АК эпохи энеолита. Самые северные пункты обнаружения чойновтинской керамики с органическими примесями в тесте, декорированной гребенчатым, шнуровым, резным орнаментом в бассейне нижней Печоры – поселения Пижма II на оз. Ямозеро и Ружникова на Космин-ских озерах [1].
Эпоха бронзы (середина II – начало I тыс. до н.э.) представлена в рассматриваемом регионе памятниками атаман-нюрской, лебяжской и коршаков-ской археологических культур. Древности первой из названных культур распространены в бассейнах рек Печоры и Вычегды в пределах таежной зоны. Самыми северными из них являются поселения Ягъель и Адзьва II на р. Усе у Северного полярного круга. Для культуры характерны многоугольные жилища, кремневые изделия, среди которых ведущее место занимают наконечники стрел нескольких типов, чрезвычайно разнообразная по форме и орнаментации глиняная посуда, известны металлические изделия. Глиняная посуда обнаруживает близость с керамическими комплексами самусьской общности в Зауралье и чирковско-сейминской культуры в Среднем Поволжье и отражает проникновение носителей этих керамических традиций на территорию Европейского Северо-Востока (далее – ЕСВ) [1].
Местную линию в развитии культуры населения ЕСВ отражает лебяжская АК. По мнению исследователей, это североевропейская культура, основной ареал которой – таежная зона бассейна р. Печора, бассейн средней и верхней Вычегды [1, 2]. Культура характеризуется наземными жилищами, окруженными завалинкой, широкогорлыми чашевидными сосудами, декорированными ямками под венчиком и наклонными рядами, горизонтальными линиями, ромбической сеткой, зигзагами из оттисков гребенчатого штампа на шейке и плечиках. Под влиянием «атаманнюрцев» в орнаментации керамики появляются протащенные линии [1]. На позднем этапе развития культуры в орнаменте, наряду с зубчатыми узорами, присутствуют шнуровые линии, прокатанные линии и крестовидные отпечатки [1, 2]. Кремневый инвентарь характеризуется скребками на отщепах, в том числе с подтесанной спинкой, листовидными и треугольными наконечниками стрел, обломками наконечников копий. Выявлены многочисленные следы бронзолитейного производства: обломки тиглей, сплески и обломки металла, глиняные металлургические стержни [1]. В арктической зоне Припечорья обнаружены ранние лебяжские памятники (Ружникова, Кыско, Колва-вис 20, Приозерская 4, 6, Адзьвинская 5, 6) [1, 3]. На поселениях Ружникова и Кыско найдена керамика. На стоянках Колва-вис 20, Приозерская 4, 6, Адзь-винская 5, 6 вместе с глиняной посудой обнаружены кремневые изделия. Стоянки, видимо, носят сезонный промысловый характер. Лебяжские материалы найдены в Адакской I пещере, расположенной на р. Усе у Северного полярного круга. В югозападном Беломорье выделяются памятники типа Бохта II, керамический комплекс которых близок лебяжскому [4].
Памятники коршаковской АК распространены в Большеземельской и Малоземельской тундрах и Печорском Приполярье [1, 3]. Выделяются поселения как места многократного использования местности (типа Коротаиха 1981/10) и кратковременные стоянки (типа Нерчей I). Изучены легкие жилища типа чумов со слабо углубленными в почву площадками округлой формы. Внутри жилых сооружений расчищены очаги, состоявшие из кострища и идущей от него вверх по наклонной площадке за пределы постройки траншеи (Коротаиха 1979/3). На поселениях Коротаиха 1979/3 и 4 найдены предме- ты, связанные с бронзолитейным производством: глиняное сопло, литейная форма для отливки плоского предмета, литейная шишка. Каменный инвентарь представлен сланцевыми плитами, кремневыми наконечниками стрел, кремневыми, кварцитовыми и сланцевыми наконечниками дротиков, кремневыми и кварцитовыми скребками, сланцевыми и кварцитовыми топорами и др. Визитной карточкой культуры является керамика. Она представлена сосудами полуяйцевидной формы с конусовидным или закругленным дном. Большинство из них изготовлено техникой выколачивания. На внутренних стенках сохранились отпечатки ткани или мелкоячеистой сетки, на которой производилась формовка сосудов. Орнамент образован наклонными рядами зубчатых отпечатков, ямками и мелкой катаной волной. Зачастую ямки под венчиками сопровождаются рельефными отворотиками. Ниже узоров из катаной волны на сосудах нанесены отпечатки грубой ткани [1]. Как полагают исследователи, керамические комплексы коршаковской культуры не имеют местных корней и предполагают их зауральское происхождение. В.И. Канивец сравнивал коршаковскую глиняную посуду с памятниками типа Сумпанья II [3]. В.С. Стоколос, поддержав эту точку зрения, расширил круг аналогий за счет лозь-винской керамики и выдвинул предположение о втором возможном пути проникновения населения коршаковской культуры – из районов Таймырского Заполярья [1].
В конце периода в южных районах изучаемого региона на поселениях водораздельных озер появляются зауральское население, украшавшее глиняную посуду крестовидными отпечатками, и население с «текстильной» керамикой, пришедшее из более южных областей лесной зоны Восточной Европы [1].
Таким образом, эпоха энеолита-бронзы в Печорском Приполярье и Заполярье в начале периода характеризуется заселением региона носителями чужъяельской АК и усилением с середины II тыс. до н.э. миграционных процессов, как и на всем ЕСВ. Именно в этот период, наряду с традиционными путями освоения арктической зоны Припечорья, с территории таежной зоны бассейнов рек Печора, Вычегда и Мезень, фиксируется новое направление – Зауралье, Западная Сибирь, север Восточной Сибири. Взаимодействие разнокультурных и разноэтнических групп населения отразилось в появлении сходных мотивов орнаментации глиняной посуды. По мнению В.С. Стоколоса, влияние мигрантов на местное лебяжское население было незначительным и пришельцы либо растворились в местной среде, либо, как в случае с носителями коршаковской АК, продвинулись в западные районы севера европейской части России [1].
Немногочисленны исследованные памятники раннего железного века, что обусловлено дальнейшим ухудшением климатических условий в I тыс. до н.э. [5]. Большинство из них относится к первому, ананьинскому этапу этого периода, значительно меньше памятников гляденовского времени. Древности ананьинского времени представлены на территории ЕСВ комплексами четырех культурнохронологических типов, выделенных В.И. Канив-цом: Ласта (VIII–VI вв. до н.э.), Чаркабож (VIII–VI вв. до н.э.), Перный (VI–III вв. до н.э.), Ямашор (VI–III вв. до н.э.) [3]. Формирование культурного типа Ласта происходило на основе лебяжской культуры эпохи бронзы. Культурный тип Чаркабож сложился в результате переселения из-за Урала носителей «крестовой керамики» и их взаимодействия с местным населением. Сложение культурного типа Перный произошло в результате взаимодействия носителей ластинских традиций и переселенцев из Прикамья, культурный тип Ямашор является восточной параллелью Перному и отражает зауральское влияние в орнаментации глиняной посуды. Памятники названных культурных типов входили в ананьинскую культурно-историческую область (общность) [6]. Как свидетельствуют имеющиеся данные, в арктической и субарктической зонах Припе-чорья представлены материалы культурных типов Ласта, Перный и Ямашор. Для керамических комплексов всех этих культурных типов характерна глиняная посуда чашевидной формы с минеральными примесями в тесте, декорированная в верхней части тулова ямками, зубчатым штампом, шнуром, фигурными отпечатками. Для перныйской и ямашорской керамики присуща такая деталь шейки, как воротничок.
Судя по опубликованным Г.А. Черновым материалам, в тундровой зоне Печорского Заполярья известны три стоянки ананьинского времени (Па-димейская 7, 32 и Сандибей-ю 7). На этих памятниках обнаружены фрагменты от 11–12 сосудов (Па-димейская 7–3, Падимейская 32–1, Сандибей-ю 7 – 7–8 сосудов), украшенных ямками, шнуром, зубчатыми оттисками, отпечатками фигурного штампа [7], что говорит о кратковременном, сезонном характере этих стоянок. Большинство археологических памятников расположено в южной части региона, в Печорском Приполярье. Керамика анань-инского времени обнаружена на водораздельных озерах Ямозеро (поселение Пижма II), Косминские (поселения Кыско, Ружникова). На нижней Печоре и Усе выявлены поселения культурных типов Ласта, Чаркабож, Перный и Ямашор. Среди них – ранне-ананьинское поселение (тип Ласта) у с. Медвежка, поселения культурного типа Перный Лабажское у с. Окунев Нос и Перный в окрестностях д. Няша-бож, поселение Чаркабож недалеко от одноименной деревни, поселение культурного типа Ямашор Сынявом I у д. Сынянырд и др. Материалы ранне-ананьинского времени обнаружены в Адакской I пещере на р. Усе. Особо необходимо отметить Ши-ховской археологический комплекс у д. Гарево в Усть-Цилемском районе РК. Здесь выявлены могильник и поселения, относящиеся к культурным типам Перный и Ямашор. Материалы перечисленных памятников свидетельствуют о постоянном обитании населения, оставившего ластинские, чар-кабожские, перныйские и ямашорские памятники в регионе. На западе жители Печорского Приполярья контактировали с носителями позднебеломорской и лууконсаари культур, на востоке – с населением, оставившим памятники перегребнинского типа в нижнем Приобье.
Древности следующего, гляденовского периода (конец III–II вв. до н.э.– первой пол. I тыс. до н.э.) относятся в бассейне р. Печора к пиджской АК (Печорский бассейн), памятники которой распространены в таежной зоне ЕСВ. Известны поселения, пещерные святилища и погребения. Керамика этой культуры характеризуется круглодонными сосудами чашевидной формы с минеральными добавками в глиняное тесто. Посуда орнаментирована в верхней части резными узорами, ямками, шнуровыми и зубчатыми отпечатками, каннелюрами. Считается, что культура сформировалась на базе культурных типов ананьинского времени, что прослеживается в форме сосудов, построении схемы их орнаментации, наличии узоров, выполненных шнуром, ямками, зубчатыми оттисками, типах поселений, погребальном обряде [8, 9]. Новыми в декоре глиняной утвари являются резные узоры и каннелюры. Если резные узоры характерны для культур, входивших в гляденовскую культурную общность, то каннелюры резко выделяют керамический комплекс пиджской АК [8]. За ее пределами сосуды с каннелюрами в пределах ЕСВ известны только в двух пунктах: поселение Вис I у д.Синдор (в окрестностях Синдорского озера) и поселение Себъяг I в низовьях р. Сев. Кельтма (левый приток Вычегды). В арктической зоне Припечорья древности пидж-ской культуры на раннем этапе ее существования отсутствуют на территории Большеземельской тундры. Это связано с пиком похолодания, который приходится на переходное время от суббореального к субатлантическому периоду в последней четверти I тыс. до н.э., что вызвало сдвиг к югу зоны тундры на 150 км от современной границы [5]. Материалы пиджской АК в Печорском Приполярье и Заполярье представлены в зоне современной лесотундры и крайне северной тайги на поселениях Пижма I-II, Ружникова, Кыско, Пижемский Гумежек, Минина Виска I, Сынянырд V, в Адакском I пещерном святилище, могильнике Новый Бор I.
Культурная ситуация в регионе изменяется в начале I тыс. н.э. На основе взаимодействия населения пиджской АК и продвинувшихся из-за Урала носителей кулайской (усть-полуйской) культуры в Печорском крае формируются памятники бичев-ницкого культурного типа, характеризующиеся сосудами чашевидной формы, декорированными зубчатыми оттисками, ямками, каннелюрами, овальными вдавлениями. Бичевницкие древности распространены в лесной и тундровой зонах ЕСВ, Верхнем Прикамье, Нижнем Приобье [10, 11]. В Большеземельской тундре выделены близкие би-чевницким керамические комплексы типа Море-ю [12]. Новое освоение арктической и субарктической зон бассейна р. Печора было обусловлено, прежде всего, благоприятными климатическими условиями, позволившими, судя по радиоуглеродным датировкам поселения у Мыса Входной, уже в первые века нашей эры выйти на побережье Баренцева моря [13]. Еще одним фактором, способствовавшим освоению этого региона в первой пол. I тыс. н.э. и усилению культурных связей между ЕСВ и Нижним Приобьем, стало развитие с конца I тыс. до н.э. транспортного оленеводства [14]. Это вызвало увеличение мобильности населения, связало отдаленные территории севера Евразии друг с другом. Этнокультурные связи с нижнеобским регионом документируются материалами Шиховского могильника в Печорском Приполярье и могильника на оз. По-жемты за Северным полярным кругом, распространением керамики, украшенной горизонтальными каннелюрами, сходных типов металлических украшений, культовой пластики. Несомненно, памятники типа Бичевник I, обнаруженные в разных географических и природно-климатических зонах, следует рассматривать в качестве одного из ретрансляторов культурных новаций на ЕСВ и в Нижнем Приобье. Не будет преувеличением предположение о том, что именно с этого времени начинается процесс формирования в арктической зоне Припе-чорья культуры, генетически связанной с нижнеоб-ско-ямальским кругом культур.
Археологических памятников середины – второй пол. I тыс. н.э., на основе материалов которых можно охарактеризовать этнокультурную ситуацию в регионе в эпоху раннего средневековья, немного (поселения Море-ю II, Хутыюнкосе I, Мыс Входной, Коматывис I, Сударма I, Минина Виска I, городище Гнилка и Ортинское, жертвенные места Хэйбидя-Пэдара и Гнилка). Они расположены в разных частях Малоземельской и Большеземельской тундр, разнотипны (поселения, городища, святилища), разновременны (часть из них содержат материалы более позднего времени) и не позволяют создать полного представления о материальной культуре, этнокультурных особенностях оставивших их коллективов, и тех процессах, которые происходили здесь во второй пол. I тыс. н. э. и на рубеже I–II тыс. н.э.
Сравнительно-типологический анализ керамических материалов эпохи средневековья позволил выделить три типа глиняной посуды (Море-ю, Хутыюнкосе, Коматывис), соответствующих трем хронологическим этапам развития в Малозе-мельской и Большеземельской тундрах «субарктической» археологической культуры. Наиболее ранним из них является тип Море-ю (вторая четверть – середина I тыс. н. э.), который, как было указано выше, одновременен бичевницкому культурному типу. Отличительной чертой керамического комплекса является сочетание в орнаменте ямок, горизонтальных каннелюр и зубчатых оттисков, среди которых оригинальны овальные двузубые. Синхронна керамике типа Море-ю изредка встречающаяся на заполярных памятниках глиняная посуда шойнатыйского типа, характерная для лесной зоны ЕСВ. Тип Хутыюнкасе датируется третьей четвертью I тыс. н. э. Его отличительной чертой является керамика, ведущими признаками орнамента которой являются ямки, каннелюры, зубчатые оттиски, сочетание отступающей и печатной техники нанесения зубчатых оттисков. Замыкают хронологический ряд раннесредневековых источников памятники с керамикой типа Коматывис, характеризующейся сосудами с сильно утолщенным венчиком, украшенными ямочно-гребенчатым орнаментом [12]. Подобная посуда обнаружена во втором горизонте поселения Карпова Губа на западном побережье о-ва Вайгач, имеющим радиоуглеродную дату14С 1180±40 л. н. (ЛЕ-2844), примерно – вторая пол. VIII – сер. IX в. н. э. [15], и в слое III поселения Мыс Входной на северном побережье Югорского п-ова с радиоуглеродной датой 1080 ± 40 14С л. н. (ЛЕ-4054), вторая пол. IX – сер. X в. н. э. [15, 16]. Предложенная схема культурно-хронологического развития керамических комплексов населения арктической зоны ЕСВ получила подтверждение в ходе новейших исследований в Большезе-мельской и Малоземельской тундрах [17].
Все эти памятники относятся к местной культуре охотников на дикого северного оленя субарктической зоны северо-востока Европы, связанной своим происхождением с нижнеобско-ямальским (угорским или самодийским по этнокультурной принадлежности) кругом археологических культур [12]. По результатам раскопок многослойного поселения Мыс Входной на материковом побережье пролива Югорский Шар Л.П. Хлобыстин определил его как памятник арктической приморской культуры, поселение охотников на морского зверя. Керамика верхних слоев типична для глиняной посуды Боль-шеземельской тундры второй пол. I тыс. н. э. Глиняная посуда из нижележащих слоев отражает влияние продвинувшихся на северо-восток Европы групп населения с севера Западной Сибири (усть-полуйского, саровского-кулайского). Хозяйственнокультурный тип этого приморского населения имел сложный характер и включал в себя как развитую морскую, так и сухопутную охоту с сезонной сменой основного промысла. Высказано предположение, что облик средневековой культуры на северо-востоке Большеземельской тундры в течение длительного времени определялся притоком нижнеобского и ямальского населения [13]. М. Ясински и О.В. Овсянников выдвинули гипотезу о том, что нижнепечорские городища второй пол. I тыс. н. э. (Ортинское и Гнилка) служили племенными центрами местного населения, известного под именем летописной «печеры» или «сииртя» ненецких преданий, имевшими тесные связи с Северным Приуральем и Нижним Приобьем. Они полагают, что эти памятники прекратили существование после X в. в процессе установления даннических отношений и подчинения печорских племен русскому влиянию [18, 19].
В Арктической зоне за пределами тундр Европейского Севера аналогии субарктической керамике втор. пол. I тыс. н. э. (как раннего, так и позднего облика) имеются на памятниках прибрежно-береговой полосы п-ова Ямал – землянки поселения Тиутей-сале [20, 21] и дюнная стоянка Тиутей-сале на западном побережье [20, 22), сопка Харде-седе, поселение Находка на восточном побережье [23]. Дюнная стоянка Тиутей-сале датирована эпохой средневековья (третья четв. I тыс. н. э) и относится к зеленогорской культуре [22, 24], остальные – к оронтурскому типу керамики Нижнего Приобъя – VIIX вв. н. э. [21, 23]. Типологически близкая больше- земельской керамика представлена на памятниках центральной части п-ова Ямал, где датируется в пределах V–IX вв. н. э. [25, 26].
Меньше свидетельств о контактах заполярного населения с коллективами таежной зоны Иж-мо-Печорского бассейна. Пока известно не менее пяти поселений (Зыбун-нюр III, Усть-Айюва I, Брыс-винское, Кыско, Ружникова), на которых единичные находки субарктической керамики могут свидетельствовать об эпизодическом проникновении небольших групп из арктического региона северо-востока Европы в более южные районы Северного Приуралья вплоть до 63º с.ш. (поселение Усть-Айюва I).
Таким образом, анализ имеющихся источников из европейских тундр, Нижнего Приобья и п-ова Ямал позволяет сделать вывод о том, что в эпоху раннего средневековья континентальные и прибрежно-береговые районы тундровой зоны северо-востока Европы, в том числе Припечорья, населяли коллективы, в материальной культуре которых отчетливо просматриваются черты сходства с населением обско-ямальского севера (древнеугорским или самодийским). Это сходство дает возможность предполагать, что, по крайней мере, во второй пол. I тыс. н. э. субарктические и арктические районы европейского сектора Евразии были заселены близкородственными коллективами, происхождение которых в большей степени было связано с областями, лежащими к востоку от Уральского хребта.
Новый этап в освоении изучаемого региона в первой четверти II тыс. н.э. начинается с проникновением новгородцев. В это время появляются первые письменные свидетельства, бесспорно, касающиеся Печорского края. Они весьма отрывочны и скудны. Из начальных страниц русских летописей [27] можно узнать, что в число народов, уплачивающих дань Руси, входила «печера». В повествовании новгородца Гюраты Роговича (1096 г.), «пе-чера» названа людьми, дающими дань Новгороду. Там же рассказывается о народе "югра", возможно, обитавшем в Припечорье, и упомянута «самоядь» (ненцы), соседствующая с югрой. Данное упоминание «самояди», очевидно, свидетельствует о начале процесса их проникновения в Большеземель-скую тундру, что привело к смене аборигенного населения в регионе [19]. К сожалению, по летописным данным практически невозможно установить географическую локализацию этих народов, а в случае с печерой – и этническую принадлежность. Впоследствии письменные источники упоминают Печеру как волость, подчиненную Великому Новгороду. Источники конца XIII – начала XIV вв., относящиеся к великокняжеской юрисдикции, т.н. «печорские акты», включают «промысловые патенты» «Жиле со товарищи», Михайлу, Матфею и Андрею Фрязиным на морской и птичий промысел, где Пе-чера упомянута как область или волость, а жители названы печеряне, без какой-либо этнической нагрузки [28]. Последнее упоминание печорян относится к 1481 г. С момента строительства на Нижней Печоре Пустозерского городка (1499 г.) Печорская волость становится Пустозерской и начинает- ся новый этап освоения региона в общем ключе государственной политики восточного «прирастания» России.
Следует отметить, что, несмотря на крайнюю скудость сообщений первых русских летописных сводов, у большинства российских исследователей не вызывает сомнения гипотеза о том, что населению Руси район Нижней Печоры был достаточно хорошо известен уже к началу XII в. Определенную ясность в картину по истории освоения Северного Припечорья первой пол. II тыс. н.э. привносят немногочисленные археологические источники, в числе которых материалы с поселения Ортинского (XI– XII вв.), святилища VI–XIII вв. Гнилка, поселенческие комплексы Новый Бор 1-4 (XIII–XV вв.), Пусто-зерское поселение (XVI–XX вв.). Среди случайных сборов из Большеземельской тундры известны находки двух топоров (XI–XII и XIV–XV вв.), а также фрагменты неорнаментированной круговой посуды. Топор XI–XII вв. был найден в окрестностях г. Нарьян-Мара, другой – на Городецком озере. Обломки круговой посуды, вместе с бронебойным наконечником стрелы XI–XIV вв., происходят из сборов на стоянках Пустозерская 3/5 [29, 30] и Нарьян-марская 5/14 [31]. Очевидно, что эти стоянки относятся к упомянутой в письменных источниках XIV в. Печерской волости, представлявшей собой крайний северо-восточный форпост Русского государства.
Памятники, расположенные на территории Ненецкого АО (Ортино, Гнилка, Пустозерск), были обследованы в конце XX в. экспедициями Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН под руководством О.В. Овсянникова и введены в научный оборот [19]. В настоящее время значительный интерес вызывает слабо исследованный комплекс памятников на левом берегу р. Печора у пос. Новый Бор (Усть-Цилемский р-н РК), открытый археологами Коми НЦ УрО РАН. Он включает четыре городища, пять (?) селищ и могильник, оставленных как местным аборигенным населением, так и русскими поселенцами.
Особый интерес у исследователей вызывает Селище Новый Бор 3. Данный памятник характеризуется наличием уличной планировки построек. Вдоль мыса, образованного берегами протоки Денисов Шар и р. Смолокурка, на площади около 6,5 га фиксируются более 40 сооружений. Археологически были исследованы остатки двух производственных построек (площадью 60 и 64 кв. м). Одна из них предположительно являлась косторезной мастерской, вторая – кузницей с двухкамерным горном. Общие размеры сооружений, их конструктивные детали, типы производственных сооружений, вещевой инвентарь позволяют сопоставить селище с памятниками Северо-Запада Руси XIV–XVI вв. Культурная принадлежность селища подтверждается находками русской круговой посуды.
Таким образом, письменные и археологические источники позволяют наметить общую канву процесса освоения русским населением бассейна р. Печора. Первые археологические свидетельства проникновения русских на Печору относятся к XII в. и представлены, в основном, комплексами древне- русских изделий из металла. Период XIII–XVI вв. находит отражение уже в большем количестве памятников, среди которых известны русские поселения. Письменные свидетельства рисуют Нижнюю Печору в «допустозерский» период как место периодического пребывания русских промысловых ватаг. Однако полученные археологами предварительные данные говорят о более плотном заселении региона как русскими промысловиками, так и аборигенным населением. Таким образом, русская колонизация Нижней Печоры является лишь страницами в истории освоения арктических территорий и формировании нового аборигенного населения.
Заключение
Археологические свидетельства пребывания человека на крайнем севере европейской России начиная с конца плейстоцена и в голоцене, трудно переоценить. Они чрезвычайно важны для понимания адаптивных процессов на фоне глобальных климатических изменений. Самые северные в Европе археологические памятники начальной поры верхнего палеолита, сочетают в своей индустрии мустьерские и собственно верхнепалеолитические черты. Стоянка Бызовая связана с естественным «кладбищем мамонтов». В ее индустрии прослеживаются формы, характерные для широко известной костенковско-стрелецкой культуры. Второй эпизод проникновения на крайний Север палеолитического населения наблюдается после длительного перерыва, обусловленного крайне неблагоприятным климатическим фоном, в конце верхнего палеолита, около 13 тыс. л. назад. Стоянки, среди которых выделяются пещерные, и, в частности, наиболее изученная Медвежья пещера, входят в состав уральской археологической культуры.
Более многочисленные мезолитические памятники, показывают освоение региона, начиная с рубежа пребореала-бореала голоцена. Это кратковременные стоянки, связанные с водоемами. Можно предположить их принадлежность небольшим мобильным группам охотников и в какой-то мере рыболовов. Годовой хозяйственный цикл их включал перемещения на значительные расстояния. Отмеченное сходство одних групп стоянок с центром Русской равнины, других – с Прикамьем, показывает направление передвижения населения в эпоху мезолита.
Подобная картина наблюдается и в неолите. Сезонные стоянки раннего неолита (первая пол. VI тыс. до н.э.), близкие верхневолжской культуре и стоянки начальных этапов среднего неолита (первая пол. V тыс. до н.э.) – льяловской культуры очерчивают северные границы периферийных частей, вероятнее всего, являющихся промысловыми территориями названных культур и общностей.
В эпоху энеолита-бронзы прослеживается несколько адаптивных стратегий пребывания населения в этом регионе. Так, в начале эпохи энеолита арктическая и субарктическая зоны Припечо-рья были заселены носителями чужъяельской АК, что было обусловлено распространением лесов вплоть до побережья Баренцева моря. В дальней- шем, с началом суббореального похолодания и сокращением территории, занятой лесами, население отходит в Приполярье, в зону современной северной тайги, где по берегам р. Печора и ее притоков, а также на водораздельных озерах Центрального Тимана зафиксированы материалы чойнов-тинской АК эпохи энеолита, атаман-нюрской и ле-бяжской АК эпохи бронзы. В Печорском Заполярье обнаружены кратковременные стоянки носителей лебяжской культуры, что свидетельствует о том, что территория Большеземельской тундры использовалась как промысловая территория лебяжцев. Возможно, эта же модель применима и для населения оставившего памятники атаман-нюрской культуры, самые северные поселения которой (Ягель) выявлены на р. Усе у Северного полярного круга. В конце бронзового века территорию Большеземель-ской и Малоземельской тундр осваивают пришедшие из-за Урала носители коршаковской АК, хозяйственно-культурный тип которых был, вероятно, приспособлен к проживанию в высоких широтах. За пределами тундры поселения коршаковцев малочисленны и располагаются в приполярных районах.
В раннем железном веке, в первой пол. I тыс. до н.э. население Припечорья, потомки лебяжцев, использует районы Большеземельской и Малозе-мельской тундр в качестве промысловой территории. Стоянки этого времени немногочисленны, а найденные материалы свидетельствуют об их кратковременном, сезонном характере. Во второй пол. I тыс. до н.э., в период максимального похолодания, происходит отток человеческих коллективов из арктической зоны Припечорья. Археологические памятники расположены только в пределах таежной зоны Печорского Приполярья.
В первой пол. I тыс. н.э. начинается новый этап в освоении изучаемого региона. В ходе взаимодействия носителей пиджской и кулайской АК в Печорском бассейне формируется бичевницкий культурный тип. Для хозяйственной модели населения, оставившего эти памятники, характерно использование различных природно-климатических зон. В середине – второй половине I тыс. н.э. на территории Большеземельской и Малоземельской тундр формируется субарктическая культура, обнаруживающая сходство с культурами обско-ямальского севера, предполагается этническое родство этих культурных образований. Хозяйственно-культурный тип населения представлял собой сложную систему и включал приморскую и сухопутную охоту с сезонной сменой занятий. С носителями субарктической культуры связано появление в регионе нового типа памятников – городищ, которые исследователи склонны рассматривать как племенные центры местного населения.
Со второй четверти II тыс. н.э. начинается процесс древнерусской колонизации Европейского Северо-Востка, завершившийся вхождением Печорского края в состав Русского государства и созданием новой этнокультурной карты региона.
Статья подготовлена по программе ориентированных фундаментальных исследований УрО РАН «Арктика», проект № 12-6-9-008 «Освоение арктической зоны Припечорья в древности и средневековье», программе фундаментальных исследований Президиума РАН, проект № 12-П-6-1002 «Формирование и развитие археологических культур эпохи железа на территории Европейского Северо-Востока: традиции и инновации»; программе междисциплинарных фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-м-5в-2037«Влияние природной среды и климата на расселение первобытного человека в голоцене в бассейнах Ижмы и Вычегды».
Список литературы Освоение арктической и субарктической зоны Припечорья в древности и средневековье по данным археологии (часть II)
- Стоколос В.С. Энеолит и бронзовый век//Археология Республики Коми. М.: ДиК, 1997. С. 213-313.
- Канивец В.И. Канинская пещера. М.: Наука, 1964. 135 с.
- Канивец В.И. Печорское Приполярье. Эпоха раннего металла. М.: Наука, 1974. 150 с.
- Жульников А.М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного Прибеломорья. Петрозаводск: Паритет, 2005. 310 с.
- Никифорова Л.Д. Динамика ландшафтных зон голоцена Северо-Востока Европейской части СССР//Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. М., 1982. С. 154-162.
- Ашихмина Л.И., Васкул И.О. Памятники ананьинской культурной общности//Археология Республики Коми. М.: ДиК, 1997. С. 314-348.
- Чернов Г.А. Атлас археологических памятников Большеземельской тундры. М.: Наука, 1985. 169 с.
- Васкул И.О. Памятники гляденовской культурной общности. М.: ДиК, 1997. С. 349-399.
- Васкул И.О. Шиховской могильник раннего железного века (первые результаты исследований). Сыктывкар, 2002. 52 с. (Научные доклады/Коми научный центр УрО РАН; Вып. 451).
- Мельничук А.Ф. Этнические процессы и освоение Северного Прикамья в эпоху раннего железного века -позднего средневековья//Материалы Междун. науч. конф. «Исторические истоки, опыт взаимодействия и толерантности народов Приуралья» (к 30-летию Камско-Вятской археологической экспедиции). Ижевск, 2002. С. 101-109.
- Мошинская В.И. Археологические памятники севера Западной Сибири//Свод археологических источников. М.: Наука, 1965. Вып. ДЗ-8. 87 с.
- Мурыгин А.М. Печорское Приуралье: эпоха средневековья. М.: Наука, 1992. 182 с.
- Хлобыстин Л.П., Питулько В.В. Многослойное поселение Мыс Входной//Древности Русского севера. Вып. 1. Вологда, 1996. С. 123-133.
- Федорова Н.В. Олень, собака, кулайский феномен и легенда о сихиртя//Древности Ямала. Вып. 1. Екатеринбург-Салехард: УрО РАН, 2000. С. 54-66.
- Каган М.М., Питулько В.В. Этнокультурные процессы I тыс. н. э. в Трансуральском Заполярье/AD POLUS//Археологические изыскания. СПб., 1993. Вып. 10. С. 103-109.
- Хлобыстин Л.П., Питулько В.В., Станюкович А.К. Древнее поселение приморских охотников Карпова Губа на острове Вайгач//Взаимодействие культур Северного Приуралья в древности и средневековье. Сыктывкар, 1993. С. 116-127. (МАЕСВ. Вып.12).
- Мурыгин А.М., Карманов В.Н., Кленов М.В. Новые археологические исследования в тундрах северо-востока Европы. Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН. 2012. 68 с.
- Ясински М.Э., Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую Арктику//Архангельский Север: проблемы и источники. Т. I. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. 464 с.
- Ясински М.Э., Овсянников О.В. Пустозерск. Русский город в Арктике. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. 400 с.
- Чернецов В.Н. Древняя приморская культура на полуострове Ямал//СЭ. 1935. № 4/5 С. 109-133.
- Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии н. э.//МИА. 1957. № 58. С. 136-245.
- Чернецов В.Н. Древняя история Нижнего Приобья//МИА. 1953. № 35. С. 7-71.
- Лашук Л.П. «Сииртя» -древние обитатели Субарктики//Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. М., 1968. С. 178-193.
- Морозов В.М., Стефанов В.И. Исследования в бассейне реки Казыма//Археологические открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1989. С. 155-158.
- Брусницина А.Г., Ощепков К.А. Памятники археологии Среднего Ямала (левобережье нижнего течения р. Юрибей)//Древности Ямала. Вып. 1. Екатеринбург -Салехард: УрО РАН, 2000. С. 79-111.
- Плеханов А.В. Ямальская Арктика в эпоху средневековья: памятники в зоне типичной тундры//Археология Севера России: От эпохи железа до Российской империи. Екатеринбург-Сургут: Изд-во “Магеллан”, 2013. С. 157-165.
- Повесть временных лет. T.I. М.-Л., 1950.
- Карамзин Н.М. История Государства Российского. Репр. воспроизведение издания пятого. Кн. I, прим. к Т.IV. Гл. VII. С.87; Кн. I, прим. к Т.IV. Гл. IX; Кн. I, прим. к Т.IV. Гл. IX. М.,1988. С.127).
- Чернов Г.А. Археологические находки в Центральной части Большеземельской тундры//Тр. комиссии по изуч. четвертич. периода. Т.7. Вып. 1. M., 1948.
- Чернов Г.А. Стоянки древнего человека в бассейне Печоры//Кратк. сообщ. ИИМК. Вып.39. M., 1948.
- Чернов Г.А. Археологические находки в восточной части Большеземельской тундры//СА. XV. M., 1951.