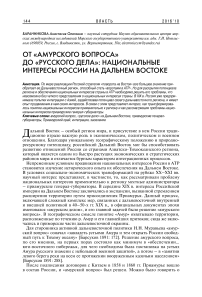От «амурского вопроса» до «русского дела»: национальные интересы России на Дальнем Востоке
Автор: Баранникова Анастасия Олеговна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 10, 2016 года.
Бесплатный доступ
По мере реализации Россией стратегии «поворота на Восток» все большее значение приобретает ее Дальневосточный регион, способный стать «воротами в АТР». Но для раскрытия потенциала региона и обеспечения национальных интересов страны в АТР необходимо решить его проблемы, что невозможно без четкого представления о национальных интересах страны. В XIX в. Россия уже предпринимала попытки интеграции с Азией, задействовав потенциал своего дальневосточного региона, и имеет опыт продвижения в нем своих интересов. В связи с этим представляет интерес, как трансформировалось понятие национальных интересов применительно к региону и как рассматривали проблемы национальных интересов приамурские генерал-губернаторы.
Амурский вопрос, "русское дело" на дальнем востоке, приамурские генерал-губернаторы, приамурский край, интеграция, заселение
Короткий адрес: https://sciup.org/170168163
IDR: 170168163
Текст научной статьи От «амурского вопроса» до «русского дела»: национальные интересы России на Дальнем Востоке
Д альний Восток – особый регион мира, и присутствие в нем России традиционно играло важную роль в экономическом, политическом и военном отношении. Благодаря уникальному географическому положению и природноресурсному потенциалу, российский Дальний Восток мог бы способствовать развитию отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, который является одним из быстро растущих экономических и стратегических районов мира и отличается бурным характером интеграционных процессов.
Непременным условием продвижения национальных интересов России в АТР становится изучение исторического опыта их обеспечения на Дальнем Востоке. В условиях социально-экономических трансформаций на рубеже XX–XXI вв. научный интерес представляет, в частности, то, как рассматривали проблему национальных интересов применительно к региону местные администраторы – приамурские генерал-губернаторы. В середине XIX в. интересы Российской империи на Дальнем Востоке заключались в экспансии, вызванной стремлением расширения территории путем присоединения Приамурья. Данный процесс, включавшей сложный комплекс мер, связанных с дальневосточной внутренней и внешней политикой в 40–50-х гг. XIX в., в официальных документах эпохи именовался «амурским делом», и его главной задачей было решение «амурского вопроса». В географическом смысле понятие «Амур» охватывало территории, расположенные по течению р. Амур и его главнейших притоков; сюда же включались и приморские части дальневосточной окраины.
Для сторонника активной дальневосточной политики Н.Н. Муравьева «амурский вопрос» означал «завладеть устьями Амура и тем открыть России свободный путь к Тихому океану» [Барсуков 1891: 172]. Решение амурского вопроса, по его мнению, на первых порах состояло как минимум в «обеспечении… юго-восточного побережья, для чего необходима была постановка на устьях Амура русского знамени с небольшой военной защитой», а потом – в «занятии левого берега реки на всем ее протяжении вооруженным казачьим населением» [Барсуков 1891: 288].
После подписания договоров с Китаем в 1858 и 1860 гг. Приамурье вошло в состав России, и «амурский вопрос» был решен. Можно было говорить о том, что экспансия Российской империи на Дальний Восток была завершена. Однако, по мнению М. Венюкова, Россия могла продолжить экспансию в Азию и не стала делать этого исключительно из-за стремления «к упрочению мирных сношений, а не к завоеваниям» [Венюков 1873: 33-36]. Другой точки зрения придерживался Ф. Энгельс. В своей статье «Успехи России на Дальнем Востоке» (1858 г.) он пишет, что Россия, получив все Приамурье, на этом бы не остановилась. Кроме того, она настояла на создании русско-китайской комиссии по установлению границ. Приводя в пример поведение подобных комиссий в Турции, где они «в течение более чем двадцати лет отрезали кусок за куском от этой страны», Ф. Энгельс полагал, что то же самое ждет и Китай [Энгельс 2014: 664].
Действительно, после 1894 г. Россия воспользовалась сложившейся в регионе обстановкой для продвижения своих экономических интересов, что может быть расценено как дальнейшая экспансия [Вардомский 2009: 184-187]. 22 мая 1896 г. между Россией и Китаем был подписан договор о союзе и строительстве русской железной дороги в Маньчжурии (КВЖД). В отношении КВЖД действовал особый международно-правовой режим, предусматривающий право подконтрольного российскому правительству Общества КВЖД на «полное и исключительное управление» своими землями. Позже подобный режим был распространен и на земли под строительство южной ветви КВЖД после заключения в 1898 г. конвенции о передаче в аренду России на 25 лет Ляодунского полуострова с портами Дальний и Порт-Артур. Таким образом, российско-китайские соглашения 1896 и 1898 гг. привели к появлению в Маньчжурии территориальных анклавов России, обладавших особым международно-правовым статусом, значительным русскоподданным населением и ощутимо влиявших на военную и экономическую ситуацию в данном регионе Китая [Казанцев, Салогуб 2011; Казанцев 2012]. Их создание воспринималось многими современниками как первый шаг к превращению Маньчжурии в российский протекторат, колонию, которая в будущем могла бы стать органичной частью империи.
Тем не менее, как отмечает И.В. Лукоянов, надежды властей на КВЖД не оправдались, и экономическую экспансию осуществить в полной мере не удалось [Лукоянов 2008: 115, 161]. Поражение в войне 1904–1905 гг. привело к полному вытеснению России из Кореи и серьезному ослаблению ее военнополитического влияния в Китае. Российское политическое и экономическое присутствие сохранилось лишь в северной части Маньчжурии.
В конце XIX в. важнейшей задачей империи стала экономическая и политическая интеграция новых территорий, установление социальной, правовой и административной однородности дальневосточного региона и центра. Выполнение данной задачи в значительной степени осложнялось тем, что даже после завершения присоединения Приамурья к России у власти по-прежнему не было окончательного и единодушного мнения о роли и месте региона, что приводило к некоторому равнодушию к Дальнему Востоку и периодическому забвению региона. Центральная власть сомневалась в выгодности вложения средств во вновь приобретенные территории, критиковала местных администраторов и, в частности, ускоренную принудительную колонизацию нового края [Ремнев 2004: 203].
Особенно четко расхождение экономических интересов центра и региона проявлялось в вопросах колонизации, свободы внутренней и внешней торговли (КВЖД, порто-франко в тихоокеанских портах), а также в распределении бюджетных средств в пользу окраин. Разногласия возникали и в вопросе определения характера развития промышленности и направленности транспортных артерий. Росло убеждение, что сибирские и дальневосточные нужды приносятся в жертву интересам имперской политики, а сами регионы рассматриваются в качестве потенциальных сырьевых придатков или инструментов внешней политики [Ремнев 2004: 58].
Однако при всем различии взглядов на роль региона и дальневосточную политику России все сходились в одном: Россию на Дальнем Востоке ждет великое будущее. И прямой путь к этому будущему – река Амур. В основе этого мнения лежала убежденность, что центр мировой экономической активности со временем переместится в Азию, и России следует заблаговременно приготовиться к этому [Ремнев 2004: 149].
Несмотря на то что Приамурский край воспринимался представителями центральной власти как колония [Шиловский 2001: 7], империя отводила ему более важную роль, чем придавали своим колониям западные страны. Это обусловило определенный набор национальных интересов, последовательно реализуемых властью через местных представителей – генерал-губернаторов. Само учреждение должности приамурского генерал-губернатора можно рассматривать как показатель особого внимания власти к региону и стремление найти наиболее эффективные способы интеграции присоединенных территорий в общеимперское пространство.
После создания в 1884 г. приамурского генерал-губернаторства понятие «Амур» применительно к территории было заменено более распространенным «Приамурье» (административно-приамурское генерал-губернаторство). Термины «амурский вопрос», «амурское дело», надобность в которых отпала после разрешения этого вопроса, стали заменяться понятием «русское дело на Дальнем Востоке» [Меркулов 1996]. Это выражение впервые появляется во всеподданнейших отчетах приамурских генерал-губернаторов С.М. Духовского (за 1893–95 гг. и 1896–97 гг.), П.Ф. Унтербергера (за 1906–07 гг.), Н.Л. Гондатти (за 1911 г.)1. При этом С.М. Духовской говорит о «русском деле» на Дальнем Востоке в связи с переселенческой политикой, П.Ф. Унтербергер – в связи с железнодорожным строительством и развитием флота, а Н.Л. Гондатти – в связи с вопросами обороноспособности и внешней торговли2.
Понятие «русское дело на Дальнем Востоке» использовалось не одними лишь приамурскими генерал-губернаторами. Великий ученый, близкий к правительственным кругам, Д.И. Менделеев писал о том, что со строительством железной дороги в Сибири осуществляется «великое и чисто русское дело» [Менделеев 2006: 213]. Н.И. Дубинина отмечет, что военный губернатор Приморской области В.Е. Флуг также упоминает о русском деле на Дальнем Востоке в связи с переселенческой политикой [Дубинина 2008: 159-161]. Известный предприниматель С.Д. Меркулов назвал свой доклад 1912 г. «Русское дело на Дальнем Востоке». Он пишет: «...вопрос о положении русского дела на Дальнем Востоке есть вопрос первостепенной государственной важности, один из крупнейших современных вопросов нашего отечества» и рассматривает угрозы региону, исходящие от мигрантов из Азии, и меры борьбы с ними [Меркулов 1996: 14].
Хотя термин «русское дело» используется во всеподданнейших отчетах генерал-губернаторов в различном контексте, это не означает, что С.М. Духовской воспринимал русское дело исключительно как заселение и колонизацию, П.Ф. Унтербергер – как интеграцию путем железнодорожного строительства и развития водных путей сообщения, а Н.Л. Гондатти – как повышение обороноспособности и развитие торговли. Ни один из генерал-губернаторов в своем отчете не дает четкого определения термина «русское дело на Дальнем Востоке». Можно предположить, что русское дело – набор национальных интересов, более ранняя версия термина «национальные интересы». А как уже объяснялось выше, набор этот неизменен для каждой страны в течение всего периода ее существования. Контекст, окружающий термин в отчетах, – те факторы и условия, которые считались приоритетными тем или иным генерал-губернатором, иными словами – инструменты обеспечения национальных интересов.
Национальные интересы России на Дальнем Востоке были неизменными в течение всего периода существования института приамурских генерал-губернаторов, менялась лишь их приоритетность, «оттенки» и их восприятие тем или иным администратором, как и средства обеспечения этих интересов. Получить представление об этих нюансах, равно как и о том, в чем заключалось русское дело на Дальнем Востоке для каждого из администраторов, можно из всеподданнейших отчетов – документов, отражающих взгляды местных администраторов на обустройство Приамурья и решение тех задач, которые позволяли бы России освоить новые территории и укрепить здесь свои позиции. Проанализировав эти документы, в которых, как правило, ставились конкретные задачи, перечислялись проблемы и указывались пути решения, можно понять, как местные администраторы представляли себе роль и место региона и развитие каких сфер считали приоритетным, обеспечение каких условий – жизненно важным, а это и есть национальные интересы.
На основе анализа политики приамурских генерал-губернаторов и их взглядов, отраженных во всеподданнейших отчетах, можно сделать вывод, что приоритетными национальными интересами России на Дальнем Востоке были заселение края и его интеграция.
Несмотря на меры, принятые каждым из генерал-губернаторов, за время существования института генерал-губернаторов задача колонизации Приамурья, которая в течение длительного времени была приоритетной для региональной власти, не была полностью решена. Численность населения увеличивалась благодаря энергичным мерам центральной и местной властей, и, по данным всеподданнейшего отчета приамурского генерал-губернатора Н.Л. Гондатти за 1911 г., к 1 января 1912 г. население края составляло 814 тыс. чел.1 Тем не менее выбор колонизационного элемента (ставка на земледельческое население в ущерб промышленной колонизации) препятствовал реализации других пунктов колонизационного плана, касающихся экономического развития края. Так, Н.Л. Гондатти констатировал: «Нельзя… не признать, что ни одна из основных частей колонизационного плана, кроме специально переселенческого дела, пока почти не призвана еще к жизни»2.
В настоящее время в удаленном от центра страны Дальневосточном регионе по-прежнему отмечается ряд проблем социально-экономического и демографического характера, что препятствует эффективному использованию региона в целях интеграции и взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Можно утверждать, что приоритетные национальные интересы в данном регионе остались теми же, что и в середине XIX в., – заселение и интеграция (в нынешних условиях – социально-экономическая). В связи с этим может оказаться полезным дальнейшее изучение опыта приамурских генерал-губернаторов по продвижению национальных интересов и решению схожих проблем региона.
Список литературы От «амурского вопроса» до «русского дела»: национальные интересы России на Дальнем Востоке
- Барсуков И.П. 1891. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. М.: Синод. тип. Кн. 1. 672 с
- Вардомский Л.Б. 2009. Российское порубежье в условиях глобализации. М.: КД «ЛИБРОКОМ». 216 с
- Венюков М. 1873. Опыт военного обозрения русских границ в Азии. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°. 144 с
- Дубинина Н.И. 2008. Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер. Хабаровск: РИОТИП. 400 с
- Казанцев В.П., Салогуб Я.Л. 2011. Занятие Порт-Артура и первые мероприятия российской власти на Квантунском полуострове 1898-1899 гг. -Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 132. С. 39-49
- Казанцев В.П. 2012. Формирование полицейско-административной системы КВЖД (1896-1905). -Россия и АТР. № 3. С. 33-43
- Лукоянов И.В. 2008. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Востоке в конце XIX -начале XX вв. СПб: Нестор-История. 668 с
- Менделеев Д.И. 2006. Заветные мысли (репринт, воспроизв. изд. 1903-1905 гг.). СПб. 428 с
- Меркулов С. 1996. Русское дело на Дальнем Востоке. -Желтая опасность. Владивосток: Ворон. С. 11-91
- Ремнев А.В. 2004. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX -начала XX веков. Омск: Изд-во Омского государственного университета. 552 с
- Шиловский М.В. 2001. К вопросу о колониальном положении Сибири в составе русского государства. -Европейские исследования в Сибири. Томск. Вып. 3. С. 6-16
- Энгельс Ф. 2014. Успехи России на Дальнем Востоке. -К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. М.: Директ-Медиа. Т. 12. С. 661-675