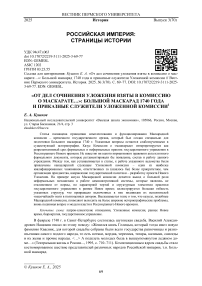«От дел сочинения уложения взяты в комиссию о маскарате…»: Большой маскарад 1740 года и приказные служители Уложенной комиссии
Автор: Кушков Е.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Российская империя: страницы истории
Статья в выпуске: 3 (70), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена принципам комплектования и функционирования Маскарадной комиссии – временного государственного органа, который был создан специально для подготовки Большого маскарада 1740 г. Указанные вопросы остаются слабоизученными в существующей историографии. Казус Комиссии о «машкераде» интерпретируется как репрезентативный срез формальных и неформальных практик государственного управления в России раннего Нового времени. Не известно ни одного нормативного правового акта или иного формального документа, которые регламентировали бы появление, состав и работу данного учреждения. Между тем, как устанавливается в статье, к работе указанного ведомства были привлечены канцелярский служащие Уложенной комиссии – одни из наиболее квалифицированных чиновников, ответственных за (казалось бы) более приоритетное, чем организация празднества, направление государственной политики – разработку проекта Нового Уложения. На примере казуса Маскарадной комиссии делается вывод о большой роли неформальных механизмов в работе административной системы, которые являлись не отклонением от нормы, но характерной чертой и структурным элементом практики государственного управления в раннее Новое время; иллюстрируется большая гибкость указанных структур, что превращало включенных в них индивидов из исполнителей «высочайшей» воли в полноценных акторов. Высказывается тезис о том, что казусы, подобные Маскарадной комиссии, позволяют выходить на более широкие историографические проблемы, вновь поднимая вопрос о модели власти в России раннего Нового времени.
Патрон-клиентские отношения, Уложенные комиссии, раннее Новое время, бюрократия, государственное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/147252182
IDR: 147252182 | УДК: 94(47).063 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-3-69-77
Текст научной статьи «От дел сочинения уложения взяты в комиссию о маскарате…»: Большой маскарад 1740 года и приказные служители Уложенной комиссии
Позднее эти события нашли отражение в романе Ивана Ивановича Лажечникова «Ледяной дом» (1835). Под его влиянием сложилось и надолго укоренившееся отрицательное отношение к ним. В дореволюционной историографии Большой маскарад рассматривался как пример упадка нравов в период Аннинского царствования в противовес «славному» правлению Петра I [ Соловьев , 1993, с. 517–520].
В значительной степени организацию и проведение данного действа принято связывать с фигурой кабинет-министра Артемия Петровича Волынского. Отчасти это справедливо, так как именно ему Анной Иоанновной были поручены маскарадные приготовления. Однако такой фокус на фигуре кабинет-министра оставляет без внимания процесс рутинного администрирования подготовки Большого маскарада. Очевидно, что А. П. Волынский не был непосредственно вовлечен в решение мелких текущих вопросов, организацию документооборота, подготовку отчетности и т.д. В то же время известно, что для подготовки маскарадных торжеств была создана специальная комиссия, которая фигурирует в опубликованных источниках как Маскарадная комиссия, или Комиссия о «машкераде» (Театральная жизнь в России…, 1995, с. 650).
В существующей историографии вопрос состава Маскарадной комиссии остается слабо-изученным. Как отмечает Людмила Михайловна Старикова, опубликовавшая в 1995 г. часть документов, относящихся к подготовке Большого маскарада, материалы собственно Маскарадной комиссии так и не были обнаружены (Там же, с. 740, прим. 368). Между тем представляется, что алгоритм комплектования и функционирования Маскарадной комиссии является репрезентативным для понимания характерных особенностей функционирования всей государственной машины в послепетровской России. Целью настоящей статьи является реконструкция состава и принципов организации Комиссии о «машкераде».
Симптоматично уже само название данного учреждения – комиссия. По определению Марины Виленовны Бабич, комиссия – это государственный орган, «чье создание “на время” для какого-либо государственного “дела” получало официальное оформление вне уже действующих структур» [ Бабич , 2003, с. 146]. Важная характеристика учреждений данного типа – компактность структуры, которая обеспечивала легкость реорганизации кадров для решения самого разного рода задач. Это позволяло решать острую для российской административной системы XVIII в. проблему их нехватки. Создание различных комиссий являлось характерной чертой функционирования российской государственной машины в раннее Новое время.
Делопроизводство Маскарадной комиссии не образовало отдельного архивного фонда. Не был также выявлен единый комплекс документации комиссии в рамках фондов других государственных учреждений. Л. М. Старикова работала преимущественно с документами, хранящимися в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. Поэтому в рамках настоящего исследования была предпринята попытка выявить любого рода материалы, касающиеся Комиссии о «машкераде», в фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА).
Исходя из предположения, что организация торжеств была прерогативой дворцового ведомства, было просмотрено 28 описей фонда 1239 РГАДА – «Московский дворцовый архив». В результате было обнаружено одно дело, непосредственно связанное с деятельностью комиссии и Большим маскарадом 1740 г., – «Дело о приеме в Обер-егермейстерскую канцелярию из комиссии по устройству маскарада разных вещей, оставшихся после большого маскарада» (РГАДА. Ф. 1239. Оп. 43. Д. 26). В нем отложились материалы, касающиеся передачи реквизита из Маскарадной комиссии в Егермейстерскую канцелярию на хранение после проведения шутовской свадьбы. Помимо описания самого реквизита, данное дело содержит указания на ведомства, из которых он поступал, а значит, косвенно указывает на круг учреждений, с которыми Маскарадная комиссия взаимодействовала, однако не дает представления о «внутренней кухне» данного учреждения.
В то же время в уже опубликованных источниках по подготовке Большого маскарада регулярно встречается фамилия обер-секретаря Сената Авраама Степановича Сверчкова. Так, например, им был завизирован запрос, отправленный из Маскарадной комиссии в Академию наук 27 декабря 1739 г. (Театральная жизнь в России…, 1995, с. 650). Его же подпись стоит под росписью реквизита и долгов, оставшихся после проведения Большого маскарада, которая поступила в Кабинет министров летом 1740 г. (Сборник Императорского русского исторического общества, 1915, т. 146, с. 92).
-
А. С. Сверчков в 1730-е гг. являлся фактическим руководителем Уложенной комиссии [ Babkova , 2016, p. 614–616]. Сопоставление формулярных списков канцелярских служащих данного учреждения с визами, стоявшими на исходящих документах Маскарадной комиссии, показало, что, помимо А. С. Сверчкова, в подготовке Большого маскарада 1740 г. участвовали и другие сотрудники Уложенной комиссии.
Так, уже упомянутый запрос в Академию наук был подписан также Никифором Михайловым, подканцеляристом Уложенной комиссии (Театральная жизнь в России…, с. 650). Под росписью для Кабинета министров, помимо визы А. С. Сверчкова, стоит подпись протоколиста Уложенной комиссии Ивана Абрашова (Сборник Императорского русского исторического общества, 1915, т. 146, с. 92).
Дальнейшее изучение делопроизводства Уложенной комиссии, в частности «Экстрактов из журналов Правительствующего Сената о занятиях канцелярских служителей, обретавшихся при сочинении Нового уложения по прибытии из Москвы в Санкт-Петербург», позволило установить, что в октябре 1739 г. канцелярские служащие Уложенной комиссии были «от дел сочинения Уложения взяты в Комиссию о маскарате, которая производилась в неусыпных трудах, при котором сочинении и обер-секретарь, что ныне статской советник, господин Сверчков был» (РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 8. Л. 31 об.).
Согласно формулярным спискам, на тот момент канцелярия Уложенной комиссии состояла из восьми человек. Помимо упомянутых Авраама Сверчкова, Ивана Абрашова и Никифора Михайлова, «при сочинении Уложения» обретались копиисты Яков Голутвинов, Алексей Чижов, Яков Астафьев и Прохор Кирилов, а также секретарь Ермолай Тишин (Там же. Л. 6–6 об.).
Впрочем, участие последнего в организации Большого маскарада вызывает сомнения. В 1738 г. Ермолай Тишин не получал жалования «за бытность при сочинении Уложенья», из чего можно сделать предположение, что Уложенная комиссия не была его основным местом службы (Там же). Кроме того, его подпись не фигурирует в связанных с организацией маскарадных торжеств документах. Как было показано выше, исходящие документы Маскарадной комиссии подписывались А. С. Сверчковым совместно с другими служащими Уложенной комиссии. Между тем в главе «О секретарском управлении» Генерального регламента 1720 г. указано, что секретарь «во всех отправах имя свое подписать должен» (Полное собрание законов Российской империи, 1830, с. 151). В то же время протоколист Иван Абрашов исполнял обязанности секретаря при Уложенной комиссии до назначения на эту должность Ермолая Тишина (29 мая 1738 г.) (РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 8. Л. 6–7).
Таким образом, в организации Большого маскарада, скорее всего, участвовали семь приказных служителей Уложенной комиссии: обер-секретарь Авраам Сверчков, протоколист Иван Абрашов, подканцелярист Никифор Михайлов, копиисты Яков Голутвинов, Алексей Чижев, Яков Астафьев и Прохор Кирилов.
Однако круг лиц, задействованных в подготовке маскарадных торжеств и работе Маскарадной комиссии, этим не ограничивался. Имеется указание на то, что к «Маскарадного дела комиссии» А. П. Волынским был определен лейб-гвардии капитан Лопухин (Сборник Императорского русского исторического общества, 1915, т. 146, с. 92). Он, вероятно, должен был обеспечить взаимодействие с Адмиралтейств- и Военной коллегиями, которые А. П. Волынский также привлек к подготовке шествия (Там же, с. 81). Кроме того, на основании специального указа из Канцелярии от строений был прислан архитектор Иван Яковлевич Бланк (Театральная жизнь в России…, 1995, с. 642). Проект Ледяного дома – центрального элемента шутовской свадьбы ‒ готовился Петром Михайловичем Еропкиным [ Курукин , 2013, с. 227–228].
Для комиссий петровского и послепетровского времени была характерна двухчастная структура – канцелярия и присутствие, куда входили члены комиссии [Бабич, 2003, с. 150]. Канцелярию Комиссии о «машкераде», как было показано выше, очевидно, составляли приказ- ные служители Уложенной комиссии. Капитан Лопухин, архитекторы И. Я. Бланк и П. М. Еропкин, по-видимому, являлись ее членами.
К сожалению, имеющиеся источники не позволяют установить полный круг членов Маскарадной комиссии. Однако можно достаточно уверенно говорить об их роли: в обязанности членов комиссии входило выполнение отдельных работ, для которых требовались специальные навыки.
Так, 9 января 1740 г. в Канцелярию от строений было передано «известие за рукою обер-секретаря Аврама Сверчкова», которое включало требование архитектора И. Я. Бланка о присылке к нему «для натуральной маделви зверей живописцов» (Театральная жизнь в России…, 1995, с. 660). 22 января 1740 г. в то же учреждение был отправлен рапорт самого архитектора с требованием прислать стройматериалы (Там же). На основании этого можно сделать вывод о том, что И. Я. Бланк в Маскарадной комиссии занимался организацией производства декораций и, возможно, сопровождением других строительных работ.
Канцелярия комиссии, в свою очередь, занималась бумажной работой – делопроизводством и документальным сопровождением процесса подготовки Большого маскарада.
Приказные служители комиссии регулярно обращались в Канцелярию от строений для получения тех или иных ресурсов. 9 декабря 1739 г. там был рассмотрен подписанный А. С. Сверчковым запрос о присылке материалов для строительства «линейных саней в виде зверей и птиц», список которых был составлен И. Я. Бланком. 23 декабря 1739 г. оттуда же были запрошены стройматериалы и мастеровые люди – «плотников дватцать, столяров четыре человека» (Там же, с. 648–649). 9 января 1740 г. Маскарадная комиссия запросила у Канцелярии от строений оленьи рога, но получила отказ, так как «в магазейнах рогов оленьих в наличности не имеется» (Там же, с. 647–648).
Аналогичным образом Комиссия о «машкераде» взаимодействовала с Академией наук, откуда 27 декабря 1739 г. были запрошены образцы внешнего вида народов, населяющих Российскую империю, «а имянно: мордовскаго, черемисскаго, чювашскаго, вотяцкаго, тунгускаго, лопанскаго, самоядскаго и протчих сибирских народов» (Там же, с. 650) . 16 января 1740 г. в Монетную канцелярию было прислано «за рукою обер-секретаря Аврама Сверчкова известие» об отпуске «мелких серебреных копеек дватцать семь рублев», которые «были привешены мас-каратных народов на мордовских, черемиских, и чювашских кичках» (РГАДА. Ф. 1239. Оп. 43. Д. 26. Л. 20). Кроме того, из расходной ведомости, присланной в Кабинет министров после проведения Большого маскарада, следует, что Маскарадная комиссия также получала материалы и реквизит из Канцелярии конфискации, Петербургской портовой таможни и Камер-канторы (Сборник Императорского российского исторического общества, 1915, т. 146, с. 73).
Помимо этого, канцелярия Комиссии о «машкераде» занималась подготовкой отчетности. После проведения торжества были «чинены щеты и свидетельствы отчетам» и представлена в Кабинет министров сводная расходная ведомость. Вся отчетность была направлена в Ревизион-коллегию, где ее проверка продолжалась «741 года февраля по 27 число». При этом за «год, 4 месяца и 27 дней» работы канцелярии Маскарадной комиссии большая часть времени была потрачена именно на отчетность (с 11 февраля 1740 г. по 27 февраля 1741 г.) (РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 8. Л. 31 об.).
Фактическим главой Маскарадной комиссии, по-видимому, был А. П. Волынский, которому организация Большого маскарада была поручена самой императрицей. Если канцелярия Комиссии о «машкераде» занималась повседневным координированием и сопровождением процесса подготовки, то кабинет-министр решал более глобальные задачи.
Во-первых, под руководством А. П. Волынского был разработан подробный церемониал шутовской свадьбы [ Успенский , 2008, с. 534]. Во-вторых, он отвечал за налаживание взаимодействия с широким кругом государственных инстанций, без участия которых, очевидно, было бы невозможно организовать столь масштабное – с привлечением представителей народов со всей империи – действо.
Так, именно А. П. Волынский через Кабинет министров инициировал отбор и транспортировку в Петербург представителей народов, населяющих Российскую империю, для участия в маскарадном шествии (всего было задействовано около 300 человек). 27 ноября 1739 г. Каби- нет министров постановил направить соответствующие указы в Москву, Казанскую и Архангелогородскую губернии и Украину. Из Казани требовалось прислать по три пары «из чермисска-го, мордовскаго, чувашскаго и татарскаго народов» (Сборник Императорского русского исторического общества, 1909, т. 130, с. 552). При этом присланные мужчины и женщины должны были быть «собою негнусные» и одеты в национальные костюмы, а при мужчинах должны были быть «ружье, луки и прочее их оружие и музыка» (Там же, с. 552–553). Аналогичные требования предъявлялись к шести парам самоедов и саамов из Архангелогородской губернии и двенадцати представителям казачества. Находящийся в Москве граф Семен Андреевич Салтыков получил указание выбрать «Калужскаго или Алексинскаго уездов 8 баб молодых и столько ж мужей их, собою негнусных и умеющих плясать; да около Москвы набрать из пастухов 6 человек, молодых людей, которые б умели на рожках играть» и инструкцию о том, в какое платье они должны были быть одеты (Там же, с. 553).
Для отбора участников шествия 11 декабря 1739 г. в Калугу из Москвы был отправлен капрал Иван Егорлин с указом для калужского воеводы (Театральная жизнь в России…, 1995, с. 664). Последний, получив указ, должен был разыскать требуемых мужчин и женщин и отправить в Москву с капралом через два дня по прибытии его в Калугу. Однако отправка затянулась до двадцатых чисел декабря. Гораздо лучше дела шли у посланного в Алексин вахмистра Янкова, который 19 декабря отчитался об успешном наборе участников шествия и приложил к своему доношению их реестр (Там же, с. 667).
Некоторые трудности сопровождали и поиски пастухов. Губернская канцелярия послала промемории в «Дворцовую и Конюшенную канцелярии и в Ямскую кантору» с повелением отыскать «в ближних деревнях и в ямских слободах пастухов, сколько сыскатца может, умеющих в рошки играть» (Там же, с. 662). 15 декабря Губернская канцелярия докладывала, что «ис помянутой Дворцовой канцелярии прислано было пастухов четыре человека, но токмо оные весма пристарелые и к той посылке не годные» (Там же, с. 666). Однако более подходящие кандидаты так и не были найдены, и были отправлены ранее отвергнутые пастухи.
Между тем 10 декабря 1739 г. в Москве был получен еще один указ из Кабинета министров на имя вице-губернатора Бориса Григорьевича Юсупова. Помимо повторения инструкций, данных С. А. Салтыкову, в нем требовалось прислать из Москвы маскарадный реквизит: «Зделать из перьев петуховых разными натуралными цветами как плюмажами до полутора ста плюмажев, не самою чистою работою; да особливо набрать петуховых же болших из хвостов перьев разных же цветов до ста пучков. <…> Колокольчиков разных рук купить или заказать зделать до тысячи; да свирелей пятдесят рылей и гутков по тритцати; волынок тритцать же» (Там же, с. 661–662). Данное поручение было возложено на Московскую ратушу, куда в январе 1740 г. купцы Андрей Малышев и Ефим Денисов сообщили о его выполнении. Для изготовления плюмажей Московской полицмейстерской канцелярии пришлось организовать розыск соответствующего мастера. 26 января 1740 г. из Кабинета министров пришел еще один указ о присылке дополнительно четырех тысяч колокольчиков (Там же, с. 672, 687).
Как показывают приведенные примеры, подготовительные мероприятия к Большому маскараду требовали вовлечения административных органов на различных уровнях властной вертикали. Иными словами, имела место масштабная акция, для проведения которой необходимо было обладать весом и влиянием в государственном аппарате. В то же время после прибытия в Петербург участники шествия и реквизит поступали в распоряжение канцелярии Комиссии о «машкераде» (Там же, с. 693).
Очевидно, высокий ранг А. П. Волынского должен был помочь «растопить лед» при первоначальном взаимодействии Маскарадной комиссии с другими государственные органами. Затем в дело вступала канцелярия, все дальнейшее взаимодействие проходило уже в рутинном рабочем порядке.
Однако примечательно, что не известно никакого нормативного правового акта или иного формального документа, на основании которого приказные служители Уложенной комиссии были привлечены к подготовке Большого маскарада. По-видимому, объяснение того, как
-
А. С. Сверчков и его подчиненные оказались среди организаторов маскарадных торжества, следует искать в несколько ином ‒ неформальном ‒ поле.
Современная историография раннего Нового времени осмысляет неформальное взаимодействие как важный структурный компонент механизма управления в раннемодерном государстве. Неформальные практики играли роль смазывающего вещества, позволяя группам и индивидам лоббировать свои интересы и оперативно аккумулировать ресурсы для решения управленческих задач [ Хеншелл , 2003, с. 35].
-
А. П. Волынский изображается исследователями как человек относительно новый в среде элиты Аннинской эпохи, который в процессе своего возвышения и, уже оказавшись на вершине, активно задействовал неформальные связи для решения текущих задач. Симптоматично, что и П. М. Еропкин, и И. Я. Бланк – архитекторы, готовившие реквизит и декорации для маскарадных торжеств, – впоследствии оказались фигурантами т.н. «дела Волынского» как ближайшие конфиденты кабинет-министра [ Курукин , 2013, с. 225].
Кабинет-министр, вероятно, задействовал неформальные связи и для финансирования Большого маскарада. Как уже было указано выше, А. П. Волынский запрашивал помощь у Ад-миралтейств-коллегии.
За два года до Большого маскарада (в 1738 г.) А. П. Волынский предпринял попытку сместить главу Адмиралтейств-коллегии адмирала Николая Федоровича Головина, которому вменялись (среди прочего) огрехи, допущенные при управлении бюджетом коллегии. 29 мая 1738 г. один из конфидентов А. П. Волынского Федор Иванович Соймонов выступил в Сенате с предложением провести ревизию во флотском ведомстве. Результатом проведенной ревизии стали отставки в руководстве коллегии и назначение Ф. И. Соймонова на пост генерал-кригс-комиссара, вследствие чего последний получил контроль над флотскими финансами [ Петру-хинцев , 2014, с. 966].
В свою очередь, А. С. Сверчков никогда не назывался исследователями в качестве конфидента А. П. Волынского. На первый взгляд, он был членом другого круга, о чем сам же достаточно прямо говорил, хотя и в несколько специфических обстоятельствах.
В декабре 1741 г. А. С. Сверчков был арестован по подозрению в участии в заговоре, (якобы) организованном гр. Михаилом Гавриловичем Головкиным с целью объявить регентшу при малолетнем императоре Анну Леопольдовну императрицей. 8 января 1742 г. на допросе А. С. Сверчков подтвердил, что являлся конфидентом графа, однако подчеркнул, что ни в каком заговоре он не участвовал, а лишь консультировал гр. М. Г. Головкина по частным и служебным делам (РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 317. Л. 14 об.).
Однако это заявление А. С. Сверчков сделал только на втором допросе. На первом допросе 19 декабря 1741 г. на «известно есть, что ты чрез многия лета у него, графа Головкина, в по-веренности находился» он ответил следующее: «У вышеобъявленнаго графа Головкина в пове-ренности никакой он не находился, а знал ево, Сверчкова, оной граф Головкин, потому что он Василья Федоровича не оставлял, тако ж по Сенатской канцелярии» (Там же. Л. 34 об.).
Из дальнейшего допроса становится известна фамилия Василия Федоровича – Салтыков.
В рассматриваемый период известны два В. Ф. Салтыкова: первый – дядя императрицы Анны, занимавший пост московского генерал-губернатора вплоть до своей смерти в 1730 г. [Русский биографический словарь, 1904, с. 75]; второй – генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга [ Курукин , 2003, 258].
Однако в данном контексте не так важно, о каком конкретно человеке идет речь. Представляется, что можно говорить о близости А. С. Сверчкова не к конкретному представителю рода Салтыковых, а о близости к Салтыковым как к «опорному клану», используя терминологию Джона П. Ледонна [ LeDonne , 1991]. Это имеет смысл в силу двух обстоятельств. Во-первых, в историографии сложилось представление о Салтыковых как о «спаянной» группе, сформированной на основе родственных связей и отстаивающей общие интересы [ Курукин , 2003, с. 202]. Во-вторых, А. С. Сверчков был знаком как минимум с еще одним представителем этого рода.
Как уже было отмечено выше, до 8 марта 1737 г. Уложенная комиссия находилась в Москве в ведении Московской конторы Сената [ Латкин , 1887, с. 71–72]. С 1733 г. ею руководил
Семен Андреевич Салтыков – дядя и один из ближайших конфидентов А. П. Волынского, родственник Анны Иоанновны по материнской линии и ее доверенное лицо [ Курукин , 2003, с. 226].
О личном знакомстве А. С. Сверчкова с С. А. Салтыковым свидетельствует письмо, которое последний написал в Сенат после отъезда Уложенной комиссии в Санкт-Петербург. В нем С. А. Салтыков просил определить в Сенатскую контору нового секретаря, так как А. С. Сверчков был отправлен «в Санкт-Питербурх к сочинению Уложенья», а назначенный на его место обер-секретарь Матвей Козьмин не мог приступить к выполнению своих обязанностей из-за болезни (РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 9. Ч. 2. Л. 93).
Доверительные отношения между Салтыковыми и А. С. Сверчковым подтверждаются тем, что он рекомендовал своему патрону гр. М. Г. Головкину, «ведая Ея Имераторскаго Величества милости и жалованье денгами к дяде ево Василью Федоровичу Салтыкову», обратиться к В. Ф. Салтыкову для решения судебной тяжбы, возникшей между М. Г. Головкиным и тогда еще великой княжной Елизаветой Петровной из-за стычки между их крепостными (Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 317. Л. 39).
Таким образом, вполне вероятно, что, когда перед А. П. Волынским встал вопрос об обеспечении административной поддержки организации Большого маскарада, он обратился к своему дяде С. А. Салтыкову, и тот порекомендовал ему подходящего исполнителя. В результате приказные служители Уложенной комиссии оказались в Маскарадной комиссии, «которая производилась в неусыпных трудах» (Там же. Ф. 342. Оп. 1. Д. 8. Л. 31 об.).
Основой Маскарадной комиссии, созданной для подготовки Большого маскарада 1740 г., стали приказные служители Уложенной комиссии, образовавшие канцелярию Комиссии о «машкераде». В зону ответственности канцелярии входили документальное сопровождения и координирование процесса подготовки торжества.
Комиссии являлись характерным элементом государственного аппарата раннемодерной России. На примере Маскарадной комиссии видно, как работали такие не вписывающиеся в упорядоченную модель регулярного государства структуры. Понимание этого является важным звеном для осмысления особенностей функционирования государственной машины в России XVIII столетия.
В то же время нормативная база для создания Маскарадной комиссии отсутствовала. Это опять шло вразрез с принципами регулярного государства, где закон должен был выступать главным регулятором административной и общественной жизни. Маскарадная комиссия была построена на неформальном взаимодействии, которое позволяло быстро аккумулировать ресурсы в условиях их хронической нехватки, а также оперативно принимать решения, обходя процедуры неповоротливого раннемодерного административного аппарата. В этом смысле неформальные связи не были отклонением от нормы, но являлись важным инструментом государственного управления.
Кейс А. С. Сверчкова и приказных служителей Уложенной комиссии демонстрирует большую гибкость как формальных, так и неформальных структур в российском государственном аппарате XVIII в. Представляется, что речь шла не об отношениях господства и подчинения, но о поиске баланса и компромисса. Индивид, включенный в такую систему, получал возможность действия и не являлся простым исполнителем «высочайшей» воли, простым винтиком «традиционно-деспотической» российской государственной машины.