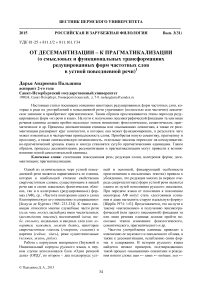От десемантизации - к прагматикализации (о смысловых и функциональных трансформациях редуцированных форм частотных слов в устной повседневной речи)
Автор: Пальшина Дарья Андреевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 3 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена описанию некоторых редуцированных форм частотных слов, которые в ряде их употреблений в повседневной речи утрачивают (полностью или частично) лексическое значение и приобретают прагматическое. Таким образом прослеживаются этапы перехода редуцированных форм «из речи в язык». На пути к получению лексикографической фиксации та или иная речевая единица должна пройти несколько этапов изменения: фонологическое, семантическое, прагматическое и др. Процессы десемантизации единицы или «вымывания» семантики, а также ее ресе-мантизации расширяют круг контекстов, в которых она может функционировать, в результате чего может измениться и частеречная принадлежность слова. Приобретая новую семантику, прагматику и просодику, а также синтаксическую независимость, отдельные лексемы переходят на коммуникативно-прагматический уровень языка и иногда становятся сугубо прагматическими единицами. Таким образом, процессы десемантизации, ресемантизации и прагматикализации могут привести к возникновению новой самостоятельной единицы.
Спонтанная повседневная речь, редукция слова, аллегровая форма, десе-мантизация, прагматикализация
Короткий адрес: https://sciup.org/14729395
IDR: 14729395 | УДК: 81-25
Текст научной статьи От десемантизации - к прагматикализации (о смысловых и функциональных трансформациях редуцированных форм частотных слов в устной повседневной речи)
Одной из отличительных черт устной повседневной речи является вариативность ее единиц, которая в наибольшей степени свойственна сверхчастотным словам, существующим в нашей речи как в своих идеальных фонетических обликах, так и в аллегровых (редуцированных) формах (АФ), ср.: «Частота повторения одного слова благоприятствует его изменению и сокращению» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 233-234]. К таким единицам относятся многие служебные части речи ( если, что, когда ), целый ряд имен числительных ( шестьдесят, тысяча ), местоимений ( меня, тебе, сколько ), модальных и вводных слов ( как говорится, кажется, может быть ) , некоторые сверхчастотные глаголы ( говорить, сказать ) и наречия ( сейчас, здесь ), реже существительные ( человек, жизнь, рубль ).
Работа с корпусным материалом (Звуковой и Национальный корпусы русского языка, в первом случае использовался блок «Один речевой день» (ОРД)2, во втором – два подкорпуса: уст- ный и основной, фиксирующий особенности произношения в письменных текстах) привела к убеждению, что редукция многих (в первую очередь сверхчастотных) форм устной речи является одним из путей пополнения русского лексикона. При передаче языка от поколения к поколению некоторые АФ могут стать «достоянием сознания и даже вытеснить старую идеальную форму» [Щерба 1974: 143]. Представляется, что на пути к такому «вытеснению» и получению лексикографической (или просто письменной) фиксации та или иная речевая единица должна пройти несколько этапов изменения: фонологического, семантического, прагматического и др.
Частота употребления единицы приводит к изменению ее звукового и письменного облика, а также к десемантизации, ослаблению связи формы и содержания. В истории русского языка найдется немало примеров, подтверждающих такой процесс «вымывания» семантики и рождения нового слова: ишь ← вишь ← видишь ; мол ←
молвил ; слышь ^ слышишь ; спасибо ^ спаси Бог ; пожалуйста ^ пожалуйте, сударь и др.
На современном этапе развития языка некоторые аллегровые формы сверхчастотных слов получают новый семантико-стилистический и/или прагматический статус, например: АФ щас ( сейчас ), здрасьте ( здравствуйте ), ваще ( вообще ), жысь ( жизнь ).
Так, одной из наиболее частотных форм в нашей речи, по результатам анализа материалов ОРД, является АФ щас (90 % - аллегровые варианты щас и ща , 10 % - полная форма сейчас ). Можно проследить процесс ее десемантизации, ср.:
-
(1) - Получается? - Щас покажем. Братья Козловы с готовностью засопели [В. Крапивин. Белый щенок ищет хозяина (1962)];
-
(2) А он - службе верный: он те щас покажет, какая у него верность [Г. Владимов. Верный Руслан (1963-1965)];
-
(3) - Я те щас поговорю, «сбесился», - сказал хозяин [Г. Владимов. Верный Руслан (19631965)];
-
(4) - А вот я тебя не боюсь! Я тебя щас !» - и красный суховатый кулак потянулся прямо к физиономии [В. Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени (1996-1997)].
В примере (1) форма щас выступает в роли обычного наречия со значением времени. Далее в примерах (2), (3) и (4) ее связь с наречием ослабевает. Выражения он те щас покажет ; я те щас поговорю ; я тебя щас! экспрессивны и вполне идиоматичны, по семантическому наполнению форма щас в этих конструкциях ближе к частице вот (ср.: Вот как дам тебе !), нежели к наречию. Особая интонация, с которой произносятся эти выражения, а также определенный порядок слов позволяют отнести их к так называемым интонационным фразеологизмам (см. [Светозарова 1999; Архипецкая 2012]) или к синтаксическим фраземам (см. список русских синтаксических фразем в [Копотев 2008: 50-52]). Но в данных выражениях, как представляется, более важную роль играет не интонация или порядок следования компонентов, а употребление аллегровых форм ( тя/те и щас ).
В следующих примерах также наблюдается семантический разрыв АФ щас с наречием сейчас :
-
(5) - [Марина, жен] Я? Ха! Щас прям ! Недостойны они этого! [Разговор двух подруг (2006)];
-
(6) - В ЗАГС? Щас ! I любил он повторять [Е. Тихонова. Жениться надо на училках! (2004) // Амурский меридиан (Хабаровск). 2004].
В контекстах (5) и (6) форма щас приобретает новое значение, которое можно определить как ‘несогласие, отказ, «скептическая улыбочка»’ (ср.: Простая демонстрация волшебных свойств продукта с призывом купить все чаще порождает скептическую улыбочку: «щас!» [В. Ляпоров. Евро за доллар (2004) // Бизнес-журнал. 2004.08.17]); с грамматической точки зрения щас выступает в функции междометия. Такое приобретение единицей нового значения, или ресе-мантизация , наблюдается в нашей речи и у единиц здрасьте , ваще и жись/жысь .
В ситуации возмущения, удивления, недовольства, несогласия с собеседником и т. п. говорящий скорее будет использовать АФ здрасьте! (как варианты - здраст , (з)драстье пожалуста! ), нежели полную форму здравствуйте (см. контексты из ОРД):
-
(7) - Вы не хотите ин... оформить инвалидность ? *П Так а(:) / кто / а кто мне её (...) да... даст ? # Здрасьте ! *П Тут по... по вашим болячкам / я тут почитала / у вас куча болячек (ОРД; Ж1#И7)3;
-
(8) - да / его все очень любили // # ой / а ты же старше Сашки / да ? // *П на один год // *П ну здраст / на десять лет ! (ОРД; Ж2#И4#Ж1);
-
(9) так / доставка // вот доставка // а что ж это у меня получилось-то ?*П чистый лист / драсьте пожалста! (ОРД; И24).
Спектр эмоций, начиная с восхищения, удивления и заканчивая негодованием, можно выразить с помощью АФ ваще (воще) :
-
(10) - Витька! Ты воще ! - выхватывая бутылку, закричала женщина [А. Иванов. Географ глобус пропил (2002)];
-
(11) Во бьет! Ну просто ваще -е-е! [Объявления // Трамвай. 1990].
Негативное отношение к жизни говорящий скорее выразит, употребив АФ жись :
-
(12) Эх, и жись моя ты - горькая кручи-нушка-а-а... [И. Шмелев. Лето Господне (19271944)];
-
(13) Митька отхлебнул еще из канистры и закусил салом. - Жись ! [В. Шукшин. Начальник (1960-1971)].
Утратив значение, аллегровые формы могут употребляться в нашей повседневной речи и в функции заполнителя паузы хезитации, о чем свидетельствуют контексты с редупликацией (АФ) щас :
-
(14) (а) так это что / я должен выйти в... в это вот / (э-э) выйти // щас - щас - щас // ну подожди (ОРД; М1#И38);
-
(15) что такое ? сейчас // *П *В *П щас-щас-щас-щас-щас / да-да-да-да-да-да-да // *П шмяк / шмяк / шмяк / шмяк // так / шмяк шмяк // что
- у нас тут со шмяком получилось / хорошо всё (ОРД; И24).
Таким образом, процессы «вымывания» семантики, или в другой терминологии «обесцвечивания» («bleaching») слова (см.: [Bybee 2003: 605]), а также его ресемантизации расширяют круг контекстов, в которых эта единица может функционировать. Следовательно, изменяется и ее частеречная принадлежность. Так, вишь когда-то стало частицей, слышь - вводным словом, спасибо - междометием и т. д. Из последних «новорожденных» единиц нашего словаря можно отметить местоименную форму те , превратившуюся в частицу, а также форму наречия щас , употребляющуюся как междометие. Аллегровая форма грит (гыт) может пополнить ряд кодифицированных ксенопоказателей. Исследователи давно ставят ее в один ряд с такими частицами, как мол, дескать, де , указывающими на цитаты из чужой речи, на субъективно окрашенную передачу чужой речи (см.: [Виноградов 1972: 573– 574; Левонтина 2010]), ср.:
-
(16) - Припасли, наработали. - Мы, гыт , голодны... - Дармоеды, сукины дети [А. Веселый. Россия, кровью умытая (1924–1932)].
Аллегровая форма слушь вполне может претендовать на место в словаре с частеречной характеристикой вводное слово наравне с давно кодифицированной единицей слышь :
-
(17) И в ответ восторженному: «Федька-то а? Слушь , это у тебя откуда же?» - хитро прижмуривает глаз [Е. Замятин. Рассказ о самом главном (1923)].
Иными словами, в современной повседневной устной речи буквально на наших глазах происходит процесс прагматикализации (см.: [Gьnther, Mutz 2004; Graf 2011: 288, 296; Богданова-Бегларян 2014]), в ходе которого определенные грамматические формы, отдельные лексемы переходят на коммуникативно-прагматический уровень языка и иногда становятся «сугубо прагматическими единицами, выражающими различные реакции говорящего на окружающую действительность и имеющими форму самостоятельных высказываний» [Graf 2011: 296]. Так, аллегровые единицы здрасьте, щас и ваще могут считаться междометными прагматемами [Graf 2011: 297], которые отличаются от своих производящих форм тем, что приобретают новую семантику, новую прагматику и просодику, а также известную синтаксическую независимость.
Многие АФ постепенно двигаются к полной лексикализации, преодолевают путь «из речи в язык», свидетельством чего является целый ряд факторов, таких как вариативность их орфографического представления (ща, щас, счас, сичас, сечас; ваще и воще), фонетизация (жизнь → жизь ^ жись ^ жысь), а также процессы де- и ресемантизации и прагматикализации.
При любом лингвистическом анализе русских текстов, во многих прикладных аспектах языкознания и, в частности, в практике преподавания русского языка как иностранного полезно учитывать процесс перехода аллегровых форм «из речи в язык», равно как и само их существование в нашей речи. Некоторые аллегровые единицы, утратив (полностью или частично) свое лексическое значение, начинают выполнять в нашей речи довольно большое количество разнообразных функций, что дает основание включить их в класс прагматем. Необходим, как представляется, Словарь прагматем русской разговорной речи , где подобные единицы были бы сгруппированы по их функциям и подробно описаны (см. также о необходимости словаря прагматем: [Бог-данова-Бегларян 2014: 20]). Кроме того, в настоящее время идет работа над созданием специального словаря редуцированных форм русской речи с максимально полным описанием каждой единицы в ее устном и письменном бытовании (см.: [Пальшина 2011; Пальшина 2012]). Наличие такого словаря позволит получать данные не только об употребительности в нашей повседневной речи той или иной аллегровой формы, но и о представленности всех реальных форм языковых единиц с отражением особенностей их функционирования.
Список литературы От десемантизации - к прагматикализации (о смысловых и функциональных трансформациях редуцированных форм частотных слов в устной повседневной речи)
- Архипецкая М. В. Интонационные фразеологизмы со значением эмоционального отрицания: автореф. дисс.... канд. филол. наук. СПб., 2012. 24 с
- Богданова-Бегларян Н. В. Прагматемы в устной повседневной речи: определение понятия и общая типология//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. Вып. 3 (27). С. 7-20
- Богданова-Бегларян Н. В. и др. Звуковой корпус русского языка: новая методология анализа устной речи/А. С. Асиновский, О. В. Блинова, Е. В. Маркасова, А. И. Рыко, Т. Ю. Шерстинова//Язык и метод: Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века./ред. Д. Шумска, К. Озга. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2015. Вып. 2. (В печати)
- Бодуэн де Куртенэ И. А. Об общих причинах языковых изменений//Избранные труды по общему языкознанию. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. I. С. 222-254
- Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М.: Высш. шк., 1972. 616 с
- Копотев М. В. Принципы синтаксической идиоматизации. Helsinki University Press, 2008. 52 с
- Левонтина И. Б. Пересказывательность в русском языке. М., 2010. URL://http://www.dialog-21.ru/dialog2010/materials/html/44.htm/(дата обращения: 06.06.2015)
- Пальшина Д. А. Звуковой корпус русского языка как материал для словаря редуцированных форм русской речи//Русская филология. 22: сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 2011. С. 183-186
- Пальшина Д. А. Редуцированные формы русской речи: история и перспективы лексикографического описания. Palmarium Academic Publishing, Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 66121 Saar-brucken, Deutschland, Германия, 2012. 147 с
- Светозарова Н. Д. Интонационные фразеологизмы со значением отрицания//Материалы 27-й межвуз. науч.-метод. конф. С.-Петерб. ГУ, Секция фонетики. СПб.: Филол. фак-т С.-Петерб. ГУ, 1999. С. 34-37
- Шерстинова Т. Ю., Рыко А. И., Степанова С. Б. Система аннотирования в звуковом корпусе русского языка «Один речевой день»//Формальные методы анализа речи: материалы XXXVIII Междунар. филол. конф. СПб.: Факультет филологии и искусств С.-Петерб. ГУ, 2009. С. 66-75
- Щерба Л. В. О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слова//Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 141 -146
- Bogdanova-Beglarian N., Martynenko G., Sherstinova T. The «One Day of Speech» Corpus: Phonetic and Syntactic Studies of Everyday Spoken Russian//17th International Conference on Speech and Computer (SPECOM-2015). Athens, Greece, September 20-24, 2015. (In Print)
- Bybee J. Mechanisms of Change in Grammatici-zation: The Role of Frequency//B. D. Joseph and J. Janda (eds.) The Handbook of Historical Linguistics. Oxford: Blackwell, 2003. P. 602-623
- Graf E. Interjektionen im Russischen als inter-aktive Einheiten. Frankfurt am Main, 2011. 328 р
- Gьnther S., S., Mutz K. Grammaticalization vs. Pragmaticalization? The Development of Pragmatic Markers in German and Italian/W. Bisang, N. P. Himmelmann, B. Wiemer (eds.). What Makes Grammaticalization? A Look from its Fringes and its Components. Berlin: Language Arts & Disciplines, 2004. P. 77-107