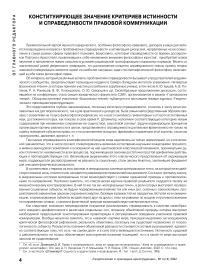От главного редактора. Конституирующее значение критериев истинности и справедливости правовой коммуникации
Автор: Разуваев Н. В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: От главного редактора
Статья в выпуске: 4 (14), 2022 года.
Бесплатный доступ
ID: 14126268 Короткий адрес: https://sciup.org/14126268
Текст ред. заметки От главного редактора. Конституирующее значение критериев истинности и справедливости правовой коммуникации
Примечательной чертой научного юридического, особенно философско-правового, дискурса в наши дни является возрождение интереса к проблематике справедливости и активизация дискуссий, направленных на ее осмысление в самых разных сферах правового познания. Безусловно, категория справедливости со времен досократи-ков Платона и Аристотеля, привлекавшая к себе неизменное внимание философов и юристов1, приобретает новое звучание и наполняется новым смыслом в условиях радикальной трансформации социальных порядков. Можно со значительной долей уверенности утверждать, что рассмотрение концепта справедливости сквозь призму теории знаковой коммуникации является одной из наиболее насущных задач постметафизической философии, включающей в себя также философию права.
Об интересе, который различные аспекты проблематики справедливости вызывают у представителей академического сообщества, свидетельствуют прошедшие недавно в Северо-Западном институте управления «Четвертые Баскинские чтения», в которых приняли участие российские и зарубежные ученые, в том числе А. Ю. Бушев, А. В. Поляков, Р. А. Ромашов, В. Ф. Попондопуло, О. Ю. Скворцов и др. Своеобразным продолжением дискуссии, состоявшейся на конференции, стала секция юридического факультета СЗИУ, организованная в рамках «Горчаковских чтений». Обзор выступлений участников «Баскинских чтений» публикуется в настоящем номере журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция».
Это представляется глубоко закономерным, поскольку категория справедливости, относясь к числу вечно релевантных как для теоретического, так и для практического дискурсов, была самым непосредственным образом связана с развитием не только философской рефлексии, но и всего комплекса гуманитарных и отчасти естественных наук, достижения которых, как показал в свое время Р. Штаммлер, наполняли соответствующую категорию новым содержанием при неизменном сохранении ее сущностной, смысловой основы2. Будучи нормирующим принципом организации картины реальности в целом, представление о справедливости длительное время влияло не только на оценку поведения субъектов права, но и на установления исходных, фреймовых параметров этой картины, таких как пространство, движение, время и т. п.
Тем самым справедливость в метафизической модели мира наделялась не только нормативной, но и когнитивной значимостью, что в числе прочего стимулировалось великими естественно-научными концепциями прошлого, а именно евклидовой геометрией и основанной на ней ньютоновской классической механикой, проникнутыми духом статичности, неизменности всех процессов, подчиняющихся законам достаточно простой арифметики действующих и противодействующих сил. Величайшим выражением этого классического представления об окружающем мире, поддающегося распространению на реальность социальную, стали законы Ньютона, заложившие фундамент для описания физической реальности.
В соответствии с первым из этих законов, в инерциальных системах материальные точки, на которые не воздействуют никакие силы, покоятся или находятся в равномерном прямолинейном движении. Согласно третьему закону, в инерциальных системах материальные точки взаимодействуют с силами одинаковой природы и противоположными по направлению. Несложно заметить, что классическая картина правовой реальности поддается такому же механистическому конструированию. В ней точно так же «материальные точки», в роли которых выступают изолированные социальные субъекты, не будучи подверженными влиянию тех или иных сил, склонны к самоизоляции, продиктованной знаменитым законом сохранения энергии, базовым в рамках той же парадигмы. Вступая же в коммуникацию, атомизированные субъекты воздействуют друг на друга с теми же равными по модулю и противоположными по направлению силами, с какими в физической природе взаимодействуют материальные тела.
Как следствие, возникает непреодолимое искушение рассматривать справедливость в качестве своеобразного среднего арифметического различных социальных сил, познание объективной природы которых выступает необходимой предпосылкой конституирования правопорядка и регулирования поведения участников правовой коммуникации. Вообще нельзя не заметить, что в «наивной» картине мира, присущей мышлению, не искушенному критической философской рефлексией, реальность объективна, поскольку она существует независимо от гносеологического субъекта. Результатом познания объективной реальности становится система высказываний, адекватно соответствующих тому, что есть «на самом деле» и в силу этого являющихся истинными. Истинность суждений о действительности не только обеспечивает всестороннее познание последней, но и в какой-то мере выступает залогом ее существования.
Является глубоко символичным, что Г. В. Ф. Гегель, в чьем учении классическая установка нашла свое наивысшее проявление и одновременно достигла собственных пределов, именно в лекциях по философии права утверждал, что все действительное разумно и все разумное — действительно3. Становится очевидно, что разумность и пропозициональная истинность социальных феноменов для Гегеля, как и для остальных представителей классической интеллектуальной традиции, являлись мощными инструментами легитимации социальных порядков. Последние, не будучи произвольными установлениями, но соответствуя разумной природе человеческого существа, приобретали благодаря этому способность диктовать индивидам правила поведения, обязательные для исполнения именно в силу своей пропозициональной истинности своих оснований.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Представляется необходимым подчеркнуть деятельностную природу социальных порядков (и прежде всего, правопорядков), представляющих собой в плане своего генезиса результаты творческой активности членов об-щества4. Нормативно опосредствуя экзистенциальную свободу индивидов, социальные и правовые порядки приобретают способность стимулировать эту творческую активность и таким образом саморепрезентироваться как в синхронии, так и в диахронной ретроспективе. Иными словами, любой социальный порядок можно определить как исторически обусловленный способ организации общественной практики, рассматриваемый в непосредственной привязке к конкретным условиям духовного и материального производства5. Неслучайно уже представители классического юснатурализма видели в социальных порядках, прежде всего в порядках правовых, нормативные образования, включающие в себя правила поведения в качестве необходимых предпосылок структурирования общественной реальности6.
Вот почему нет никаких причин утверждать, что классическая идейная традиция, представленная, с одной стороны, юснатурализмом, а с другой — платонизмом, выступавшим постоянным оппонентом и при этом своеобразным alter ego юснатурализма, вообще несовместима с признанием относительности, неполноты и принципиальной незавершенности результатов познания, то есть с релятивизмом познания и деятельности. Более того, можно с известными основаниями констатировать, что релятивизм является своего рода «изнанкой» классического правового мышления, равно как и классического мышления в целом7. Дело в том, что уверенность в существовании абсолютной истины, будучи положенной в основу картины реальности, приводит либо к невозможности примирить метафизическую истинность суждений с ошибками и заблуждениями, либо с признанием непостижимости истины как таковой.
Тем не менее, невзирая на принципиальную возможность неверной интерпретации онтологического статуса социальных структур (в том числе государства и права), влияющей на их легитимирующие свойства, классическое мышление исходило из аксиоматического характера нескольких основных постулатов. А именно социальная реальность представляет собой объективную данность, результаты познания которой формулируются в виде суждений (пропозиций), чья истинность не зависит от конкретных обстоятельств места и времени.
Залогом объективного характера этой реальности для носителей традиционного правового мышления могли служить вечные и неизменные законы природы, божественное провидение или иные, не менее непреложные онтологические начала, в свою очередь, придававшие социальным порядкам легитимирующие свойства, то есть способность подчинять себе поведение индивида, навязывая последнему правила, обязательные для соблюдения именно по причине своей истинности. Сказанное, разумеется, не означает, что классическое правовое мышление руководствовалось убеждением в том, что социальные структуры непосредственно выступают частью окружающего природного мира.
На самом деле уже древним грекам казалась очевидной сконструированность политических и правовых порядков, радикально отличающая их от явлений природы, выступающих непосредственной данностью для субъекта познания. Вместе с тем показателем объективной истинности таких порядков для классического мышления выступала их сконструированность по аналогии с природой8. Таким образом, легитимация политико-правовой реальности в рамках классической рациональности опиралась на эпистемологические предпосылки, опирающиеся на убежденность в существовании объективной истины и обусловленности социальных структур результатами их познания. В деонтологическом плане правомерное поведение, определяемое этими структурами, противопоставлялось девиации точно так же, как познание истины противопоставлялось заблуждению в плане эпистемологическом.
Постклассическое мышление связывает легитимацию правовых и социальных порядков не столько с когнитивной, сколько с нормативной их значимостью9, перенося тем самым акцент из сферы познания в сферу коммуникации, направленной на достижение взаимного понимания и согласия в вопросах природы и смысла юридических
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
феноменов10. Суть прагматического поворота, характеризующего постклассическое мышление во всех его проявлениях, включая мышление правовое, со всей отчетливостью была раскрыта в известном тезисе Л. Витгенштейна, гласящем: «Значение слова есть способ его употребления. Ибо этот способ и есть то, что мы усваиваем, когда данное слово впервые входит в наш язык. Вот почему существует соответствие между понятиями “значение” и “правило”»11.
Таким образом, справедливость, как базовый конститутивный принцип организации правового порядка, не является преднаходимой, она не выводится из познания объективных закономерностей социальной жизни, но создается в процессе непрерывных усилий субъектов знаковой коммуникации, направленных на поиск взаимопонимания и достижение обоюдного согласия. Важной предпосылкой коммуникативных взаимодействий такого рода выступает взаимное признание участниками коммуникации друг друга в качестве не просто объектов, данных нашему восприятию чисто внешним образом, но самоценных личностей, коммуникативные акты которых обладают внутренней значимостью и, как следствие, интерсубъективной релевантностью.
Собственно, эта установка на Другого и порождаемое ею обоюдное приятие коммуникантами субъектности друг друга, являются закономерным следствием процесса знаковой коммуникации как такового, на что указывал еще Дж. Мид, видевший биологическую предпосылку установки на Другого, о которой идет речь, в обмене жестами, распространенном в природном мире12. Человек, будучи природным существом, точно так же имеет естественную привычку воспринимать других индивидов в качестве самоценных субъектов общения, чьи речевые акты несут в себе смысловое ядро, нуждающееся в восприятии (своего рода «дешифровке») и понимании.
О необходимости обращаться к естественным наукам в поисках базовых оснований справедливости говорят и современные теоретики13, включая теоретиков права. Так, по словам А. В. Полякова: «Методологический натурализм требует основываться в познавательной деятельности только на научных методах, под которыми понимаются в первую очередь методы естественных наук. По-видимому, применительно к правовым знаниям, речь не может идти о полной их натурализации… но использовании данных естественных наук для решения философско-правовых задач. Вопрос о натурализации знаний о правовых ценностях актуализирован в последние годы в связи с успехами естественных наук в изучении мозга человека, а также в связи с появлением новых цифровых технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта»14.
Таким образом, универсальные конститутивные и легитимирующие свойства категории справедливости, по всей видимости, коренятся уже в биологической природе человека, что позволяет исследовать данную категорию сквозь призму результатов нейронауки и иных естественных наук. Одновременно, будучи тесно связанным с социально-дискурсивными практиками, принцип справедливости в содержательном плане эволюционирует под влиянием совершенствования знаковых средств коммуникации, способствующих достижению перлокутивного эффекта коммуникативных действий, совершаемых субъектами общения.
Изучение эволюции коммуникативных взаимодействий одновременно с биологическими предпосылками конструирования правового порядка, по всей видимости, открывает широкое поле междисциплинарных исследований, способных обеспечить появление новой теории справедливости, опирающейся на солидную философскую базу и общенаучный фундамент. Хочется выразить уверенность в том, что дискуссии о природе справедливости и ее реализации в различных сферах правовой реальности, публикуемые на страницах журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция», откроют новый этап в развитии теоретико-правового дискурса, который придаст мощный импульс исследованиям в отраслевых юридических науках.
Разуваев Николай Викторович, главный редактор