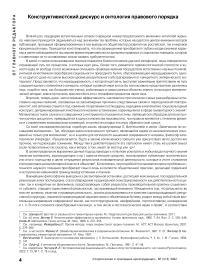От главного редактора. Конструктивистский дискурс и онтология правового порядка
Автор: Разуваев Н. B.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: От главного редактора
Статья в выпуске: 3 (13), 2022 года.
Бесплатный доступ
ID: 14124954 Короткий адрес: https://sciup.org/14124954
Текст ред. заметки От главного редактора. Конструктивистский дискурс и онтология правового порядка
Всякий раз, предваряя вступительным словом очередной номер предлагаемого вниманию читателей журнала, невольно приходится задумываться над значением тех проблем, которые находятся в центре внимания авторов публикаций, проецируя сформулированные в них выводы на общий вектор развития как российской, так и мировой юридической науки. Приходится констатировать, что эти размышления приобретают глубоко неоднозначный характер в свете наблюдаемой в последнее время неравновесности динамики правовых и социальных порядков, которую с известными на то основаниями можно назвать турбулентностью.
В какой-то мере использованное понятие покажется более или менее удачной метафорой, лишь поверхностно отражающей суть тех процессов, о которых идет речь. Более того, ревнители терминологической строгости и ясности едва ли вообще сочтут возможным описывать правовые явления посредством естественно-научных понятий, учитывая качественное своеобразие социального и природного бытия, обусловливающее нередуцируемость одного из другого даже на самом высоком уровне умозрительного абстрагирования от конкретного эмпирического ма-териала1. Представляется, что нередуцируемость, о которой идет речь, выступает важнейшим препятствием на пути создания единого понятийного аппарата, который в равной мере могли бы использовать представители различных наук, подобно тому, как большинство ученых, работающих в самых разных областях знания, используют математический аппарат, вовсе не пытаясь приспособить его к специфике предметов своих наук.
Впрочем, теперь даже «непостижимая эффективность» математики при описании самых разнообразных естественно-научных явлений, основанных на закономерных причинно-следственных связях и периодической повторя-емости2, всё активнее ставится под сомнение теоретиками постмодерна, видящими в математике социокультурный конструкт, детерминированный эпистемологическими установками, коренящимися в сфере гуманитарного знания3. Математика в таком случае из совершенного инструмента отыскания истины, являющегося образцом для всех прочих научных дисциплин, превращается в одну из множества языковых игр, чьи правила меняются с течением времени и с изменением всевозможных конвенций, в контексте которых эти игры обретают свой смысл.
Со всей последовательностью подобную мысль сформулировал Л. Витгенштейн в своих «Замечаниях по основаниям математики». Так, обсуждая закон исключенного третьего, являющийся одним из аксиоматических оснований не только для математики4, но и в целом для логического мышления современного человека, философ категорически утверждал: «Предполагается, будто в законе исключенного третьего уже присутствует нечто достаточно прочное, не подлежащее сомнению. Между тем в действительности эта тавтология имеет столь же шаткий смысл (если позволительно так сказать), как и вопрос о том, имеет ли место p или ~ p »5.
В своем предельном выражении данный подход приводит к попыткам усмотреть в любых видах научного знания (включая математику, юриспруденцию и пр.) идеологические средства, используемые субъектами политического или иного господства в целях отчуждения результатов познавательной деятельности, которые в итоге становятся инструментами дисциплинарной власти в обществе6. Естественно, при подобной постановке вопроса проблема истинности научного познания приобретает смысл лишь в контексте общественной практики, делающей подвижной и исторически изменчивой границу между истинным и ложным.
Важнейшим философским выводом из рассмотренной установки, достигшей максимально последовательной реализации в век постмодерна, стало утверждение о радикальной сконструированности как действительности в целом, так и конкретных ее феноменов, представляющих собой результаты производительной практики социального субъекта, ставшего единственной реальностью, заслуживающей внимания. Убеждение в том, что реальность во всех ее аспектах, включая и правовую реальность, должна рассматриваться в качестве самопорождающей (рекурсивной) структуры, лишенной преднаходимой заранее связи с объективным бытием, роднит между собой такие влиятельные направления современной мысли, как постструктурализм, неофрейдизм, постпозитивизм, неомарксизм и т. п. В итоге сложился своеобразный консенсус, в том числе в постклассической науке о праве7, в соответствии с которым реальностью является все то, что воспринимает в качестве таковой познающий и действующий субъект, чья творческая активность конструирует структуры реальности, выступая их онтологическим фундаментом.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Следовательно, именно юридическая наука, под которой мы понимаем любые виды познавательной деятельности — от максимально широких философско-правовых обобщений до конкретных прикладных исследований, направленных на решение сугубо частных вопросов и внедрение результатов познания в правотворческую, правоприменительную и судебную практику, определяет бытие правовой реальности, выступая смысловым ядром этой последней. Кроме того, в условиях постиндустриальной цивилизации, когда появление новых, ранее не существовавших предметов регулирования и объектов прав (например, цифрового имущества и прав на него) потребовало от юриста в его повседневной, «рутинной» работе максимального напряжения интеллектуальных усилий, сама эта практическая деятельность становится разновидностью научного познания, неотделимого от интеллектуального творчества в более широком значении данного слова. Именно процессы познания, реализуемые в своей универсальности на любых уровнях правовой реальности, конструируют правопорядок, обеспечивая неразрывное единство онтологии и эпистемологии юридических феноменов.
Таким образом, мы можем с большой долей уверенности утверждать, что познание выступает важным элементом процесса самоконституирования структур правовой реальности, в онтологическом плане невозможных без участия познающего субъекта, чьи интерпретативные усилия обеспечивают бытие объекта восприятия. Не менее важное значение в плане конструирования правовой реальности имеет и юридическое образование, которое не только формирует у юристов навыки, необходимые для осуществления познавательной деятельности, но и способствует передаче накопленного опыта от поколения к поколению, обеспечивая тем самым оптимальное сочетание инновационности и преемственности в исторической динамике правопорядка.
Применяя сформулированные выше общие соображения к онтологии правопорядков, можно утверждать, что эти последние творятся в ходе познавательных усилий индивидуальных и социального субъектов. Причем, как и всякое познание, в том числе и такое, результаты которого, на первый взгляд, кажутся предельно абстрагированными от эмпирической основы реальности, правовое познание действительно является исторически и социально детерминированным. На него колоссальное воздействие оказывают метафизические предпосылки познания и разнообразные внешние факторы, включая интересы взаимодействующих общественно-политических групп, а также их потребности в идеологическом обосновании отношений господства и подчинения, складывающиеся на том или ином этапе развития человечества8. Вот почему история познания может показаться поверхностному, неопытному либо пристрастному наблюдателю историей заблуждений, влияющих на устойчивость и долговечность порождаемых конструктов, которые нередко достаточно быстро утрачивают свою способность влиять на сознание и поведение индивидов.
В самом деле, способность права конструировать правопорядок, регулировать складывающиеся в нем отношения и поведение участников отношений кажется абсолютно непостижимой, подобно тому как непостижимой представляется способность математики адекватно описывать процессы и явления природы. Между тем такая «непостижимость» имеет вполне закономерные объяснения, коренящиеся в самой природе человеческого познания, одним из аспектов которого выступает практическая деятельность9. Если бы право, как полагали и продолжают полагать некоторые теоретики, представляло собой всего-навсего разновидность идеологии (хотя оно, безусловно, таковою является в одной из своих многочисленных ипостасей)10, то смена идеологических систем с изменением социально-экономического базиса должна, по идее, приводить к полному крушению соответствующих правовых порядков, чего на самом деле не происходит.
Даже изжив себя в качестве актуального в историческом плане явления, право продолжает различными способами (от прямой рецепции до возрождения в тождественных условиях тех или иных правовых элементов прошлого) участвовать в конструировании правопорядков на последующих стадиях эволюционного развития. Эта или прямая, или исторически опосредованная зависимость, назовем ее правовою традицией , создает условия для преемственности правопорядков в исторической ретроспективе11. Точно так же опирающееся на правопорядки прошлого современное право обеспечивает когерентность правовой реальности в синхронном измерении, заимствуя
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
из прошлого «строительный материал» для конструирования новых сегментов правовой реальности, восполняющих пробелы, неизменно возникающие в ходе ее эволюции.
Наглядной и самой яркой иллюстрацией сказанному служит римское частное право, которое в своих важнейших стадиально-типологических проявлениях, к числу которых принадлежали ассоциативно-образная связь юридических категорий, лежавших в основе правопорядка, а также относительная неразвитость его нормативного компонента и, как следствие, преимущественно индивидуальный характер регулирования, являло собой диаметральную противоположность правовым системам современного мира. Неслучайно столь проницательный исследователь, как О. Шпенглер, характеризуя историческую специфику римского частного права, отмечал, что оно «от начала и до конца — право повседневности и даже мгновения. По своей идее оно создается в каждом отдельном случае и на данный случай, с завершением последнего перестает быть правом»12.
Однако эфемерность конструкций, из которых складывалось пространство правопорядка Древнего Рима, не послужила непреодолимой преградой для обращения в последующие эпохи к опыту римского частного права, оказавшегося удивительно востребованным в новых условиях, для регулирования отношений, аналогов которым в римском правопорядке не существовало13. Так, в юридической литературе и в законодательствах ряда стран приобретает все большее значение категория бестелесных вещей (res incorporales), в римском праве имевшая вполне конкретную привязку к идеям стоической философии14, а в наши дни используемая, безотносительно к стоицизму, для обозначения объектов, не имеющих с точки зрения физической науки вещественного субстрата15.
Примечательной аналогией может служить античная математика, не утратившая своей познавательной ценности, невзирая на то, что тип мышления, сотворивший и наполнивший смыслом геометрию Евклида, Архимеда и Диофанта, безвозвратно канул в прошлое в процессе эволюции. Тем не менее элементарную математику, созданную величайшими умами древности, не только изучают на школьной скамье, но и терминология, используемая высшей математикой, продолжает отсылать к этой наивной и устаревшей математической модели пространственных структур, в чем легко убедиться на примере архимедова поля, являющегося частной разновидностью евклидова кольца. Иными словами, евклидова метрика и задаваемые ею математические структуры образуют тот фундамент, к которому при необходимости могут быть редуцированы более абстрактные области неевклидовой числовой вселенной.
В чем же кроется причина такой удивительной стабильности тех конструкций, которые, будучи созданы еще в Античности, вышли далеко за ее культурно-исторические пределы? Представляется, что ответ на поставленный вопрос дает античная наука, впервые обратившаяся к всестороннему познанию окружающей действительности, руководствуясь не только прикладными потребностями, что было характерно, например, для практической мудрости на Древнем Востоке, но и стремлением к знанию как самоцели, знанию ради него самого16. Именно повинуясь магическому воздействию удивления, в котором еще Аристотель видел первопричину и источник всякого познания, Евклид и другие античные математики пытались дать исчерпывающее аксиоматическое описание математических объектов, тем самым конструируя реальность, ставшую отправной точкой для последующей эволюции. Точно так же римские юристы, описывая в своих трудах фактический состав правопорядка, придавали мощный импульс для его дальнейшего эволюционного развития.
Тем самым познание, будучи множеством самых разных нитей связано с реальностью и отвечая на ее запросы, эту реальность творит. В самом деле, исследуя тот или иной объект в акте эмпирического восприятия или теоретического осмысления, участники познавательной деятельности не только конструируют данный объект в его сущностных свойствах, сообщая ему бытие (то есть субъективную или интерсубъективную реальность), но также и придают толчок к трансформации, видоизменению предмета познания, что, в свою очередь, делает необходимым дальнейшее более глубокое изучение. Собственно, эта взаимообусловленность познания и реальности характерна не только для отдельных сфер общественного бытия, подобных правопорядку, но может считаться универсальным законом, определяющим существование любых живых существ на Земле.
Сформулировавший этот закон американский психолог Дж. Келли особо подчеркивал «творческую способность живого создания репрезентировать окружающую среду, а не просто реагировать на нее. Так как живой организм способен репрезентировать свое окружение, он может подставлять на его место альтернативные конструкции и фактически что-то делать со своим окружением, если оно ему не подходит. Тогда мир для живого существа реален, но отнюдь не непоколебим, если только оно не решает истолковать его таким образом»17. Сочетание свойств скон- струированности правовой реальности и ее непосредственной данности для воспринимающих и взаимодействующих с ней субъектов позволяет реабилитировать критерии истинности и объективности существования юридических феноменов в рамках конструктивистской картины действительности18.
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Большой ошибкой было бы полагать, что созидаемый на основе коммуникативных (дискурсивных) взаимодействий субъектов правопорядок есть не что иное, как легитимированный произвол, значимый лишь в известном социально-историческом или культурном контексте. Смысловая релевантность феноменов правовой реальности не определяется одним лишь общим социокультурным контекстом, но имеет собственный онтологический статус. Конструктивистские свойства права, равно как и способности правовых феноменов воздействовать на поведение участников юридической коммуникации, свидетельствуют об общезначимости юридических конструктов, принимаемых за «объективную» данность в интересах стабильности правопорядка.
Право, как в статическом, так и в динамическом своих измерениях, подчиняется известным закономерностям, определяющим структурную организацию и эволюцию правовой реальности, которая, будучи сконструирована в ходе общественной практики, обладает бытием, относительно автономным от иных, внеюридических видов социальной коммуникации (например, от политико-идеологической, экономической, моральной, религиозной и прочих видов человеческой деятельности). Относительная автономия правовых релевантностей, исходно обладающих самостоятельным смыслом, позволяет субъектам осуществлять юридическую деятельность не только, а зачастую даже не столько потому, что она в качестве таковой навязана им внешними силами, например агентами политического господства или обладателями экономической монополии на основные средства производства, но потому, что такая деятельность исходно признается в качестве таковой субъектами юридической коммуникации.
Следовательно, право как таковое само по себе обладает побудительной силой, отличной от побудительности, присущей религиозным заповедям, моральным императивам и тем более чистому произволу. В его самостоятельной релевантности, признаваемой коммуницирующими индивидами и воздействующей на их поведение, заключаются онтологические основания объективности и истинности феноменов правовой реальности. Как справедливо подчеркивал А. В. Поляков: «Право имеет собственную структуру, в которой выражается его эйдетический смысл. В этом своем аспекте право, как и любая идеальная сущность, вневременно и внепространственно»19. На обнаружение эйдетической сущности правовых явлений нацелено познание, прежде всего познание научное, являющееся, таким образом, важнейшим звеном всего механизма конструирования правовой реальности.
Безусловно, процессы конструирования не сводятся к одной только познавательной активности. Ранее мы уже имели возможность обратить внимание читателей на то значение, которое присуще в плане конструирования пра-вопорядков практической деятельности юристов20. Но, как свидетельствует опыт прошлого, любой вид практики, осуществляемой спонтанно, без видимой цели и перспективы, хотя и является неизбежной отправной точкой в развитии любого правопорядка, не способен создать жизнеспособные феномены. Следовательно, правовая практика для того, чтобы иметь эффективные результаты, должна быть связана с научным познанием, опосредствующим как бытие, так и эволюцию правопорядков.
Обнаруживая те проблемы, которые присущи правопорядку на известном этапе развития, научное познание не только конструирует феномены реальности из эмпирических данностей, непосредственно явленных субъектам в актах интенционального восприятия, но и предвосхищает появление новых конструктов, фактического материала для создания которых может не иметься в наличной действительности. Это предвосхищающее конструирование, необходимым инструментом которого является так называемое опережающее обучение21, позволяет науке стать не только мощной организующей силой, но и фактором целенаправленного развития правового порядка.
Разуваев Николай Викторович, главный редактор