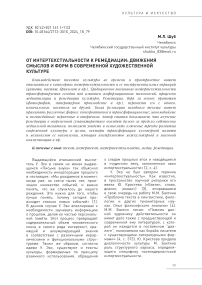ОТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ К РЕМЕДИАЦИИ: ДВИЖЕНИЯ СМЫСЛОВ И ФОРМ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Автор: Шуб М.Л.
Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki
Рубрика: Культура и искусство
Статья в выпуске: 4 (18), 2024 года.
Бесплатный доступ
Взаимодействие текстов культуры во времени и пространстве может описываться в категориях интертекстуальности и ее инструментальных вариаций (цитата, пастиш, бриколаж и пр.). Традиционное понимание интертекстуальности трансформируется сегодня под влиянием информационных технологий, процессов медиатизации и ремедиации культуры. Ремедиация, беря за основу прототип (фотографию, литературное произведение и пр.), переносит его с одного, изначального, носителя на другой. Такая релокация исходного текста может принимать различные формы: консервативные и трансформационные; мономедийные и полимедийные; первичные и вторичные. Автор статьи доказывает, что изучение ремедиации в современной гуманитаристике выходит далеко за пределы собственно медиальной тематики, позволяет увидеть и осмыслить ключевые тренды развития современной культуры в целом, векторы трансформации культурной памяти и механизмов ее накопления, мутации инструментов межкультурной и массовой коммуникации и пр.
Текст, интертекст, интертекстуальность, медиа, ремедиация
Короткий адрес: https://sciup.org/170205893
IDR: 170205893 | УДК: 82’42+821.161.1+7.03 | DOI: 10.48164/2713-301X_2024_18_79
Текст статьи ОТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ К РЕМЕДИАЦИИ: ДВИЖЕНИЯ СМЫСЛОВ И ФОРМ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Выдающийся итальянский мыслитель У. Эко в своем не менее выдающемся «Письме внуку» так объяснил необходимость инкорпорации прошлого в настоящее: «Мы рождаемся в момент, когда уже, за сотни тысяч лет, произошло множество событий, и важно понять, что же случилось до нашего рождения. Это нужно для того, чтобы лучше понять, почему сегодня происходит столько новых событий» [1]. В данном случае У. Эко апеллировал к необходимости заучивать информацию о прошлом, делая ее частью персональной памяти. Этот процесс превращает содержательный объем человеческого мозга в своего рода интертекст, хранящий и аккумулирующий знания в соответствии с различными иерархическими и функциональными структурами. Таким же образом, согласно идеям У. Эко, существуют и тексты культуры, формируемые по принципу взаимного использования, обращения к следам прошлых эпох и находящиеся в «чудесном лесу, заполненном эхом интертекстуальности» [2, с. 4].
У. Эко не был автором термина «интертекстуальность». Как известно, в пространство научной риторики его ввела Ю. Кристева («Бахтин, слово, диалог, роман») [3], опиравшаяся в свою очередь на работу М.М. Бахтина «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа» [4]. М.М. Бахтин писал: «Помимо данной художнику действительности он имеет дело также с предшествующей и современной ему литературой, с которой он находится в постоянном “диалоге”, понимаемом как борьба писателя с существующими литературными формами» [4, с. 373]. Ю. Кристева придала диалогичности культуры М. Бахтина роль структурного каркаса, определяющего специфику постмодернистской интертекстуальности.
Почти классическая цитата Р. Барта фиксирует универсальную, интемпо-ральную природу интертекстуальности: «Каждый текст является интертекстом: другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более ли менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат… Как необходимое предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний: она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек» [5, с. 226].
И.В. Арнольд под интертекстуальностью понимала «включение в текст либо целых других текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде маркированных или немаркированных, преобразованных или неизменных цитат, аллюзий и реминисценций» [6, с. 346].
Разнообразие обозначенных трактовок ценно не само по себе – оно позволяет увидеть три наиболее распространенных пути интерпретации интертекстуальности:
– как среды бытования текстов культуры;
– как способа их бытования;
– как способа их конструирования (как писала Ю. Кристева, «интертекстуальность – это понятие, которое будет признаком того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в неё» [3, с. 436]).
Стоит также отметить, что весь опыт изучения интертекстуальности распадается на две основные линии:
– инструментальную (интертекстуальность как прием соединения текстов в тексте);
– онтологическую (интертекстуальность как широчайшая палитра межкультурных, межпоколенных, межэпохальных связей между текстами, детерминирующих их переклички, встречи, союзы; как неизбежное условие любого творческого акта).
С легкой руки постмодернистов интертекстуальность превратилась в метавселенную, поглощающую все объективные (мир природы) и субъективные (мир культуры) явления. Интересна в этом контексте мысль Ж.Л. Годара, который, отвечая на вопрос «Как вы можете описать свою манеру цитирования?», отметил: «То, что называется цитатой, это ведь вещь или сюжет обычные в нашем мире, кино лишь использует их. С того момента, когда фраза произнесена публично, она становится всеобщим достоянием. Впрочем, всё – цитата. Дерево, например, – цитата природы» [Цит. по: 7, с. 103].
Феномен интертекстуальности прекрасно монтировался с постмодернистской картиной мира: с ее ризоматизацией бытия, игровым отношением к реальности, пониманием мира как метатекста, ироничным восприятием прошлого. Однако почему же в условиях новой, современной культурной парадигмы (постпостмодернистской, или метацифровой – можно использовать любую терминологию) проблематика интертекстуальности сохраняет свою актуальность и не выпадает из исследовательской повестки?
Существует несколько причин такого положения вещей.
Во-первых, интертекст – это идеальная единица хранения памяти в идеальном архиве.
Если взять условный, «свободный» от внешних влияний текст за единицу архивного хранения, то он занимает такой же объем памяти, как и интертекст, содержащий при этом в сотни раз больше информации. В условиях современности, которую П. Нора маркировал как «эпоху архивов» [8, с. 31], это чрезвычайно важное свойство. Сегодня благодаря почти безграничным техническим возможностям, как никогда ранее, фиксируется стремление к каталогизации, архивированию, сохранению следов прошлого, расширение мемориального поля, гипертрофированное раздувание функций памяти – все то, что П. Нора назвал «гонкой за прошлым». Интертекст, с одной стороны, объективирует идею архивного бума, сам являясь метафорой архива, а с другой – способствует его реальному пополнению.
В-вторых, интертекст – идеальный способ удержания прошлого. В данном контексте стоит вспомнить знаменитую фразу П. Нора: «О памяти так много говорят, потому что ее больше нет» [8, с. 15]. По мысли французского исследователя, социальные механизмы трансляции прошлого, основанные на традициях и межпоколенной коммуникации, перестали существовать. Живая память поколений трансформировалась в места памяти, в различные формы ее мумификации и музеефикации. Утрата прошлого потребовала различных способов гиперкомпенсации, замещения этой утраты. Отсюда – тотальное стремление «сооружать мемориалы, обновлять и умножать количество музеев, больших и малых» [9].
Интертекст в этой ретрологике бытия становится одновременно и музеем культурного наследия, и инструментом аккумуляции прошлого. Еще столетие назад такими ключевыми инструментами удержания прошлого в настоящем путем привнесения его следов во вновь создаваемый текст были цитаты и аллюзии. В условиях современной культуры на их смену пришел пастиш. Не вдаваясь в детали, отметим, что пастиш является одним из способов конструирования текстов на основании комбинации уже существующих референсов (стилей, жанров, смыслов и пр.). Его специфика заключается в отсутствии как критического, так и подобострастного отношения к прошлому и стремления к глубокому, интеллектуальному взаимодействию с ним. С одной стороны, появление пастиша, как отмечает В.А. Анисимов, маркирует процесс «культурного недомогания», в котором «прошлое потеряло свой авторитет, а культурное производство стало оторванным от любого исторического или социального контекста… пастиш представляет собой провал культурной памяти и потерю исторического сознания» [10, с. 88]. С другой стороны, по словам Р. Дайера, пожалуй, самого главного специалиста по пастишу, он выполняет важнейшую для актуальной культуры функцию – регенерирует тексты про- шлого, совмещая в них эмоциональную наполненность (комбинация фрагментов как веселая игра) с интеллектуальной осознанностью (комбинация фрагментов как результат кропотливой умственной работы) [11, с. 17].
В-третьих, интертекст – идеальное лекарство от «невроза творческого бессилия» (Н.Б. Маньковская).
Современность нередко трактуется как «эпоха исчерпанности» [9] в том смысле, что все открыто и придумано в прошлом, а актуальной культуре остается лишь играть в бисер, собирая осколки минувших шедевров. Режиссер и сценарист Д. Клер так описала это состояние: «Что бы я не писала или не ставила в театре: вещи, фигуры, абстрактные формы, – всегда есть что-то, за чем я следую, что уже существует. Далекая от невинности, оригинальности, первичности, подвластная спонтанности я обращена ко всему разнообразию сокровищницы наследия человеческой культуры, которая и есть наша память или, если хотите, виртуальный музей» [Цит. по: 12].
Вне зависимости от инструментов его конструирования (цитаты, аллюзии, бриколаж, пастиш и пр.) интертекст выступает новым образованием по сравнению с его прототипами. У. Эко говорил о том, что вновь создаваемый текст, основанный на цитации, не равен используемым цитатам и не является их суммой [2, с. 23]. Интертекст, заимствуя фрагменты текстов прошлого, генерирует новые смыслы и формы. Это происходит и в случае, когда такое заимствование принимает форму сознательной и открытой имитации (пастиш); и когда оно маскируется под «второй уровень смыслов» (У. Эко), не считываемых мгновенно; и когда по отношению к референсам транслируется чувство трепетного уважения; и когда оно сменяется постмодернистской иронией и даже издевкой. Во всех этих случаях интертекст – это всегда изобретение и открытие.
В интертексте заложен потенциал развития (и автора, и реципиента), а не потенциал угасания. Н. Пьеге-Гро акцентировал внимание на том, что «любая форма интертекстуальности требует хотя бы минимального истолкования, выпадающего на долю читателя» [13, с. 138]. Ю.М. Лотман полагал, «текст в тексте» активизирует творческий потенциал автора и интерпретационный потенциал реципиента [14, с. 66].
В-четвертых, интертекст – это идеальный маркер времени.
Он формируется в определенных социокультурных обстоятельствах, адаптируясь под них, реагируя на запросы времени и одновременно отражая их. Понимание эволюции интертекста и механизмов его генерирования позволяет открыть новые грани современности и понять их природу, в частности природу новых форм интертекстуальности. Еще несколько десятилетий назад формирование интертекстов осуществлялось, главным образом, линейно, пополняясь за счет обращения к генетически родственным текстам (литературное произведение аккумулировало литературные цитаты, живописное – художественные и т. п.). Сегодня все более очевидными становятся, во-первых, «эффект кочевания» (использование текстовых прототипов в разных, «не родственных» видах и жанрах искусства, рекламе и пр.) как реакция на мультимедийность и появление гибридных культурных форм. А, во-вторых, тренд, в рамках которого вертикальный, диахронный принцип формирования интертекстов (обращение к наследию прошлого из точки в настоящем) постепенно сменяется горизонтальным, синхронным принципом («расползание» текстов по различным медиа). Последний тренд исследователи связывают с феноменом ремедиации.
-
А . Эрлл, говоря о ключевых векторах распространения культурной памяти применительно к современной культуре, выделяла следующие из них:
-
– массовизация вместо элитариза-ции прошлого (интенсификация обращения к темам прошлого в продуктах массовой культуры);
-
– переход от «ограниченных во времени средств хранения, которые позволяют культурным воспоминаниям путешествовать через века и даже
становиться объектами, к пространственным средствам распространения, которые могут достигать большой аудитории почти одновременно, создают культурные воспоминания сегодня и забываются завтра» [15, с. 390].
Оба тренда характеризуют «движение прошлого» в парадигме его ремедиации. В рамках концепции А. Эрлл, ремедиация противопоставляется интертекстуальности, воплощающей в себе как признаки элитаризма (недоступные массовой культуре инструменты создания интертекста и его декодирования реципиентами), так и доминирование временной формы генерации интертекста на основе обращения к ресурсам прошлого. Отличие ремедиации от интертекста пролегает, таким образом, во-первых, в сфере их генерации и бытования, а во-вторых, в каналах их распространения.
Н.И. Степанова также разводит понятия «интертекстуальность» и «ремедиация» (отметим, что она использует понятие «интертекстуальность», которое по смыслу близко или даже совпадает с понятием «ремедиация»), видя главное их отличие в специфике семиотических систем, участвующих в их производстве: «В системе интертекстуальных отношений связи выстраиваются внутри одного семиотического ряда (к примеру, цитирование в литературном произведении). Интермедиальность предполагает включение “в работу” иной семиотической системы (к примеру, описание живописного произведения в произведении литературном). Именно разноканаль-ность воздействия и наличие блока перевода, свойственные феномену интермедиальности, составляют ее отличие от интертекстуальности как таковой» [16, c. 112-113].
Среди множества определений ремедиации ниже представлены только два, наиболее иллюстративно показывающих, с одной стороны, роль медиа в бытовании и распространении текстов культуры, а с другой – технологическую сложность этого процесса:
-
1) ремедиация – это процесс репрезентаций информации о прошлом
в различных медиа (газетные статьи, фотографии, романы, дневники, фильмы и пр.) [15, с. 392];
-
2) ремедиация – процесс, «который можно представить как набор различных уровней перевода, понимаемого в данном случае как создание вторичных текстов, инвариантных форм одной и той же идеи, созданных с помощью лингвистических и экстралингвистических средств» [17, с. 974].
Чтобы сохранить контуры категории «ремедиация» четкими и понятными, надо сделать оговорку о том, что в контексте данной работы под ремедиацией понимается не просто «мерцание» образов и форм, кочующих между текстами культуры, а именно их релокация с одного «носителя», с одного медиа, с одной семиотической системы на другие.
Варианты такой релокации могут быть разными:
-
– в зависимости от степени сохранности изначального текста: консервативная (сохранение изначального текста) и трансформационная (изменения формы и/или содержания изначального текста);
-
– в зависимости от числа участвующих медиа: мономедийная (перенос на одно новое медиа) и полимедийная (перенос на несколько медиа);
-
– в зависимости от объекта апелляции: первичная (ремедиация аутентичного текста) и вторичная (ремедиация ремедиации);
– в зависимости от полноты медиации исходного текста: тотальная (использование текста целиком) и фрагментарная (ремедиация отдельных фрагментов исходного текста).
И. Раевски выделяет следующие сочетанные типы ремедиации:
-
1) медиальную транспозицию (релокация изначального текста на одно медиа, в ходе которой осуществляется формальная трансформация изначального текста при сохранении его содержания, например, кино- или театральные адаптации литературных произведений, новелизация фильмов и пр.);
-
2) медиальную комбинацию (релокация изначального текста на два и более
медиа, в ходе которой осуществляется «развитие» как содержания изначального текста, так и его формы, например, комиксы, созданные на основе литературного прототипа, визуальные инсталляции – на основе театральных постановок и пр.);
-
3) интермедиальные отсылки (релокация изначального текста на одно или более медиа, при которой сохраняются базовые свойства текста, но усиливаются его медиальные характеристики, например, кинематографические приёмы монтажа в литературных текстах, отсылки фотографии к живописи и наоборот – живописи к фотографическим техникам и т. д. [12].
К какому бы типу не относилась та или иная ремедиация, она выполняет одну или несколько указанных ниже функций:
-
1) генерирующую (создание на основе исходного текста нового по своим содержательным характеристикам текста или текстов);
-
2) консервирующую (сохранение путем переноса на новый медианоситель исходного текста, продление таким образом его «жизни»);
-
3) мемориальную (популяризацию и транспонирование значимого мемориального контента посредством расширения аудитории его восприятия, адаптации его содержания к разным категориям реципиентов);
-
4) витализирующую (оживление прошлого, стирание жестких границ между минувшим и настоящим, стремление создать иллюзию аутентичности событий, действий, высказываний);
-
5) мультипликационную (расширение числа креативных агентов, участвующих в распространении, трансформации, регенерации, интерпретации исходного текста).
Одним из наиболее ярких примеров ремедиации, одновременно выполняющей все указанные функции, является ремедиация дневников Анны Франк. Этот кейс подробно описан в статье Д. Вертхейма «Ремедиация как моральное обязательство: аутентичность, память и мораль в представлениях об Анне Франк» [18]. В ней исследователь описывает «путешествие» дневников по разным медиа, начиная с книжного издания и до театральных постановок и фильмов, музеев и тематических сайтов.
Будучи достаточно понятным с точки зрения технологической составляющей процессом, на уровне содержания ремедиация скрывает в себе парадоксы, которые, по сути, являются и парадоксами современной культуры в целом.
В-первых, парадокс ауратичности.
С одной стороны, в процессе ремедиации культурные тексты неизбежно теряют документальную связь с прошлым, из «реальных событий» (произведений) превращаются в «медиальные нарративы» (А. Эрлл). Американская писательница С. Озик в 1997 г. на страницах журнала «Нью-Йоркер» выступила против злоупотребления ремедиацией мемориальных текстов, в частности дневника Анны Франк: «Это может показаться шокирующим (меня саму шокирует эта мысль), но можно представить еще более спасительный исход: дневник Анны Франк сожжен, исчез, утрачен – спасен от мира, который сделал из него что угодно, иногда правдивое, а иногда легковесно обошелся с более тяжелой правдой о названном и воплощенном зле» [Цит. по: 18, с. 157]. За этим публичным обращением стоял страх потери «исконной ауры» значимых текстов прошлого, проходящих существенные, а порой просто губительные трансформации в процессе кочевания от медиа к медиа. Ключевым оппонентом С. Озик в этой дискуссии выступил уже упоминавшийся нами Д. Виртхейм, убедительно показавший разные, в том числе и конструктивные, сценарии ремедиации дневника Анны Франк [18]. Он подчеркивал, что реме-диативные тексты стремятся к передаче аутентичности референтных текстов, к созданию эффекта их документальной правдоподобности, что необходимо, по его мнению, для более эффективного усвоения моральных уроков прошлого.
А. Эрлл в качестве примера конкретных механизмов такой ауратичной ремедиации приводит фильм Ф.Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня», который визуа- лизирует, мифологизирует исторические события с помощью интертекстуальных отсылок к документальным съемкам войны во Вьетнаме и оригинальным звуковым дорожкам. Аналогичным примером является использование кадров документальных съемок времен гражданской войны в Испании в фильме А.А. Тарковского «Зеркало». В обоих случаях режиссеры, прибегая к исходным текстам (документальные съемки), интегрируют их в пространство художественного киноповествования для создания атмосферы присутствия, эффекта правдоподобия и усиления эмоционального воздействия кинотекста.
Этот парадокс, заключающийся в противоречии между созданием в ходе ремедиации суррогатов прошлого и стремлением к поддержанию иллюзии их правдоподобия, отмечали и Дж. Болтер, и Р. Грушин. Его суть они сводили к противоречию, лежащему в основе самой природы медиа, между непосредственностью и гиперпосредственностью: «Наша культура стремится как к умножению медиа, так и к стиранию всех следов посредничества: в идеале она хочет стереть свои медиа в самом акте их умножения» [19, с. 10]. Результатом умножения медиа является тотальная ремедиация текстов прошлого, результатом стремления к непосредственности – желание замаскировать их под тексты, не прошедшие ремедиацию.
Во-вторых, парадокс памяти. О нем говорят и А. Эрлл, и А. Ассман, и А. Ригни. Так, А. Эрлл указывает на то, что «даже несмотря на антагонистические и рефлексивные формы репрезентации, ремедиация имеет тенденцию укреплять культурную память, создавая и стабилизируя определенные нарративы и иконы прошлого» [15, с. 394]. С другой стороны, в результате данного процесса происходит размывание и замыливание исходного текста, носителя знаний о прошлом и воплощающего его. Срабатывает закон убывающей предельной полезности: частота упоминаний первичного текста, его постоянное медийное релоцирование снижает его художественную, социальную и мемориальную значимость.
В данном случае можно привести пример, ставший уже классикой, – фотографию «Водружение флага над Иводзимой» Д. Розенталя (23 февраля 1945 г.). На ней изображена группа американских морских пехотинцев, поднимающих американский флаг на японском острове к югу от Токио. Изначальная ремедиация этой фотографии в форматах мемориала, статуй, книг, песен, почтовых марок, фильмов сохраняла изначальный смысл и мемориальный контекст. Однако через несколько десятилетий, когда она превратилась в комикс, саркастические листовки, мемы – это было утрачено и, напротив, из места памяти эта фотография превратилась в «мемориальную антиутопию» (А. Ригни) [20].
Наличие указанных парадоксов ремедиации подчеркивает ее внутреннюю сложность и противоречивость медийного бытия текстов культуры. Однако именно эти обстоятельства и формируют исследовательский интерес к феномену ремедиации. Общим местом сегодня стало признание того, что «классическая» интертекстуальность (в том смысле, в каком ее понимали
М. Бахтин, Р. Барт и Ю. Кристева) уступила место «плюримедийным сетям» (А. Эрлл), т е. ремедиации. Она обновила представления о культурной памяти и способах ее трансляции; закрепила сценарий «смерть автора», добавив к нему сценарий «смерть читателя» (поскольку фигура интерпретатора становится в процессе ремедиации такой же призрачной и ускользающей, как и фигура автора в постмодернистских текстах); интенсифицировала диалог между различными медиа, усилила их борьбу за выработку собственного интерпретационного языка.
Ремедиация представляет собой чрезвычайно интересный предмет гуманитарного интереса, поскольку позволяет отследить и осмыслить ключевые тренды развития современной культуры: сложное, порой конфликтное сочетание устремленности в прошлое и настроенности на новационное, трансмедиальное будущее; визуализация технологического каркаса культуры и попытки сохранить ее аура-тичность и аутентичность; формирование креативности как базовой ценности и беспрецедентный по масштабу интертекстуальный бум.