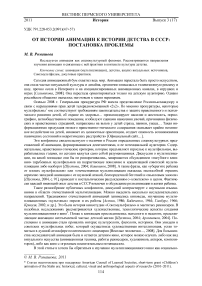От истории анимации к истории детства в СССР: постановка проблемы
Автор: Ромашова Мария Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историческая динамика Российской культуры
Статья в выпуске: 3 (17), 2011 года.
Бесплатный доступ
Исследуется анимация как социокультурный феномен. Рассматриваются направления изучения анимации и связанные с ней практики в контексте культуры детства.
Анимация (мультипликация), детство, анализ визуальных источников, союзмультфильм, досуговые практики
Короткий адрес: https://sciup.org/147203344
IDR: 147203344 | УДК: 791.228-053.2(091)(47+57)
Текст научной статьи От истории анимации к истории детства в СССР: постановка проблемы
Сегодня анимационный бум охватил весь мир. Анимация перестала быть просто искусством, она стала частью визуальной культуры и дизайна, органично вписалась в телевизионную рекламу и шоу, прочно осела в Интернете и на специализированных анимационных каналах, в игрушках и играх [ Сальникова , 2008]. Она перестала ориентироваться только на детскую аудиторию. Однако российское общество оказалось неготовым к таким переменам.
Осенью 2008 г. Генеральная прокуратура РФ внесла представление Россвязькомнадзору в связи с нарушениями прав детей телерадиокомпанией «2х2». По мнению прокуратуры, некоторые мультфильмы1 «не соответствуют требованиям законодательства о защите нравственного и психического развития детей, об охране их здоровья… пропагандируют насилие и жестокость, порнографию, антиобщественное поведение, изобилуют сценами нанесения увечий, причинения физических и нравственных страданий, направлены на вызов у детей страха, паники, ужаса… Такая информационная продукция низкого нравственно-этического содержания оказывает крайне негативное воздействие на детей, искажает их ценностные ориентации, создает опасность возникновения панических состояний и невротических расстройств» [Официальный сайт…].
Эти конфликты свидетельствуют о наличии в России определенных социокультурных представлений об анимации, формировавшихся десятилетиями, и ее потенциальной аудитории. Содержательные, нравственно-этические критерии, которые предъявляют взрослые к мультфильмам, вырабатывались годами, но сегодня кажутся само собой разумеющимися. Дискуссии о мультипликации, на какой площадке они бы не разворачивались, завершаются обсуждением «пагубного влияния» зарубежных мультфильмов на подрастающее поколение и идеализацией советской мультипликации либо наоборот [ Шустова , 2004; Кашников , 2008]. А такие фразы, как «уберегите ребенка от плохих мультфильмов» или «отечественная мультипликация оказалась неспособной отразить агрессию западной анимации с ее шумовой атакой, беспорядочной беготней и смысловым хаосом» [ Шустова , 2004, с. 91], приводят к ностальгическим рассуждениям о «советском» в целом. Фактически каждый имеющий опыт детства в СССР вовлечен в обсуждение роли анимации в жизни ребенка.
Такое разнообразие публичных конфликтов, дискуссий контрастирует с научными изысканиями в области отечественной мультипликации. Можно выделить несколько исследовательских направлений. Традиционно отечественной анимацией занимались киноведы, изучавшие мультипликационных «культовых» персон и их работы [ Асенин , 1986; Бабиченко , 1964; Гамбург , 1966; Кривуля , 2002; и др.]. Это была история киностудии «Союзмультфильм» и маститых режиссеров. В подобных исследованиях рассматриваются художественные, технологические аспекты создания мультипликационного кино2. Позже к киноведам присоединились психологи и педагоги, представляющие анимацию неотъемлемой частью детской жизни [ Шустова , 2004; Аромштам , 2004]. Постепенно к анимации стали проявлять интерес культурологи, филологи, историки. Они увидели в советских мультфильмах побег, который осуществила художественная интеллигенция, устав томиться в душной атмосфере политического лицемерия [Веселые человечки…, 2008]. Для большинства исследователей анимация была и остается детским кино, которое можно изучать либо как вид визуального искусства (анимационная техника, работы режиссеров, художников, актеров, композиторов), либо как кино с огромным воспитательным потенциалом.
В этой статье я хотела бы обратиться к изучению мультипликационного кино как социально
* Статья подготовлена при поддержке American Council of Learned Societies, short-term grant «Children’s animation of the Stalin era: historical, cultural, visual and anthropological aspects of research» (2010–2011).
го и культурного феномена, оказывавшего влияние на разные сферы жизни детей и их родителей, а также как особой оптики, меняющей исследовательский взгляд на отечественную историю детства.
Анимационная культура находится на пересечении истории анимации и истории детства, родительских интересов и пристрастий художников, государственной политики в сфере кино и частных инициатив по включению анимации в детскую жизнь.
Прежде чем обозначить возможные способы изучения анимации в контексте культуры детства, пути перехода от узкой киноведческой истории анимации к истории и антропологии детства, необходимо охарактеризовать общий контекст развития анимационного кино в СССР и институциональные особенности производства мультфильмов.
До середины 1930-х гг., как полагают некоторые исследователи, не существовало отечественной школы анимации, за исключением дореволюционной кукольной анимации Владислава Старевича и новаторского «Нового Гулливера» (1935) Александра Птушко [ Левинг , 2008, с. 317]. Колоссальное влияние на ее становление оказало творчество Уолта Диснея, чьи технологии в то время были самыми революционными в мире. Знакомство с его работами произвело неизгладимое впечатление на будущих советских мультипликаторов и определило судьбу многих из них3. Аниматор Федор Хитрук так описывает свои первые впечатления о мультфильмах Уолта Диснея, которые он увидел на I Международном кинофестивале в Москве в 1935 г.: «…фильм Диснея из серии “Забавные симфонии” не укладывался ни в какие рамки привычного сознания… Это был такой класс режиссуры, такое слияние пластики, музыки, идеи и характеров – поразительно… Анимационные фильмы запали мне в душу. Я тогда не мог и мечтать о том, что сам буду заниматься. Но для меня эти фильмы были больше чем искусство, это была ворожба, колдовство. По движению, по характеру, по игре для меня происходило нечто более убедительное, чем в игровых фильмах» [Анкета…, 1997, с. 24].
Созданная в 1936 г. студия «Союзмультфильм»4 на протяжении нескольких лет осваивала целлулоидную технологию, представлявшую собой производственный конвейер, подобный тому, который существовал у Уолта Диснея5. Введение этой технологии изменило характер работ советских мультипликаторов в последующие десятилетия. Вместе с конвейером пришли определенные американские стандарты, стилистика [ Левинг , 2008, с. 317], которым обучали советских художников-мультипликаторов. Как отмечает И. Иванов-Вано, подготовка на мультипликаторских курсах велась в основном на учебных пособиях, разработанных Диснеем [ Асенин , 1986, с. 47].
Начало «оттепели» не вызвало серьезных изменений мультипликации. Ю. Левинг отмечает, что «в отличие от советского игрового кино, в котором после 1953 г. смогли появиться откровения М. Калатозова, М. Хуциева, Г. Чухрая и ряда других молодых талантливых режиссеров, «оттепель» не принесла ожидаемой революции в советской анимации» [ Левинг , 2008, с. 319]. Пройдет еще несколько лет, прежде чем в советской мультипликации начнутся авангардные эксперименты, поиски собственного стиля, лишенные жесткой привязки к просвещению детско-юношеской аудитории. Начавшиеся в конце 1960-х гг. художественные эксперименты и отсутствие особого идеологического контроля в отличие от кинопроизводства6 привлекали в мультипликацию многих талантливых актеров, композиторов, сценаристов, каждый из которых мог найти в ней свое «место под солнцем». Вероятно, большинство режиссеров при создании мультфильмов сталкивались с цензурным аппаратом, но чаще вмешательство шло со стороны дирекции киностудии, редактуры сценарного отдела и худсовета студий. Это был не только произвол над творчеством, но и попытка улучшить качество фильма либо желание обойтись «малой кровью». Цензоров больше всего пугал неконтролируемый подтекст, который не везде и не всегда прочитывался. Среди многочисленных придирок, не оказавших влияния на окончательный результат работы кинематографистов, были и подобные (свидетельство И. Я. Боярского о фильме Р. А. Качанова «Чебурашка»): «…Долго Главк не утверждал сценарий Э. Успенского для режиссера Р. Качанова… Претензии сводились к тому, что нельзя принимать в пионеры непонятного зверька – Чебурашку!» [ Бородин , 2005].
Часто советскую историю анимации представляют историей только одной единственной студии «Союзмультфильм», ставшей монополистом в создании мультфильмов и продвижении своего образа детства. Однако в 1960-е г. региональные студии телевизионного фильмопроизводства («Свердловсктелефильм», «Волгоградтелефильм», «Пермтелефильм», «Куйбышевтелефильм» и др.) заняли свою нишу в выпуске документальных, художественных, музыкальных и мультипликационных лент. Региональные студии конструировали свой образ детства, по-разному соотносив- шийся с официальным вариантом, представленным «Союзмультфильмом.
Реконструкция институциональной истории мультипликационного кино, «кухни» советской мультипликации, начиная с инфраструктуры, профессиональных сообществ, особенностей производства и заканчивая взаимоотношениями центральных и региональных студий, позволит представить мультипликацию как поле социальных взаимодействий, непрекращающейся борьбы и транс-формаций7.
В мультипликационных фильмах можно обнаружить как идеологические установки, ретранслировавшиеся властью через своих агентов, художников, сценаристов, актеров, цензоров, включенных в институциональную систему советского мультипликационного производства [ Пи-роженко , 2004, с. 140], так и личные профессиональные интересы, пристрастия и представления самих «агентов власти» [ Азарх , 1999; Богданова , 2008; Котеночкин , 1999; Малянтович , 2000; Мигунов , 2001, 2006; Норштейн , 2008; Цехановский , 2001, 2002 и др.].
Если взглянуть на историю детства в СССР через призму анимации, то анимация оказывается неотъемлемой частью детской повседневности.
Признание историчности детства, озвученное французским историком Ф. Арьесом в 1960е гг., означало признание историчности институтов и идеологии детства, менявшихся вместе с социальной структурой и технологиями [ Арьес , 1999]. Как отмечает К. Калверт, историю детства нельзя рассматривать как прогрессивное развитие системы воспитания, а отношение к детям – как переход от плохого к хорошему. В разные периоды истории дети, приобретая что-то в одной сфере своей жизни, обычно теряли что-то в другой [ Калверт , 2009]. Это касается и таких форм детского времяпрепровождения, как чтение, игры, занятие музыкой, посещение кинематографа (в 1940– 1980-е гг. в него включают мультипликацию), театра, слушание радио. Одни из них утверждались в системе детского досуга, другие теряли завоеванные ранее позиции.
Детский досуг, или детское свободное время, в Советском Союзе часто рассматривается как структурированное, организованное времяпрепровождение, включенное в общую систему воспитания. Одни исследователи представляют детские досуговые практики в советские годы (прежде всего в 1920–1950-е) как изощренные и утонченные средства манипуляции детским сознанием, применявшиеся властями. Государство имело много рычагов, при помощи которых в детское сознание внедрялись коммунистические нормы и принципы жизни [ Салова , 2000]. В детский театр, кино, художественную литературу закладывалась «особая риторика, делающая идеологически правильное говорение неосознанным», превращающая его в «родную речь», в обязательное идеологическое знание [ Притуленко , 1995; Нусинова , 2003, и др.]. Показателен пример с повестью П. А. Бляхина «Красные дьяволята», которая была экранизирована в 1923 г. Как отмечает А. А. Сальникова, это был один из самых успешных экспериментов советской власти по приобщению мальчиков и девочек к новым революционным идеалам. Появление повести, а впоследствии и фильма, стало ответом на предложение Н. Н. Бухарина на V съезде комсомола отвлечь молодежь от «буржуазной» приключенческой литературы собственными книгами о «красных пинкертонах». В результате в 1927 г. 32,8% девочек (из более чем 300 опрошенных) назвали «Красных дьяволят» наряду с «Броненосцем Потемкиным» своей любимой художественной лентой [ Сальникова , 2003, с. 426].
Другие авторы говорят о самостоятельном, личном выборе ребенком тех или иных форм проведения свободного времени, которые взрослые не могли полностью контролировать (особенно четко это проявляется в позднесоветские годы). Ребенок самостоятельно управлял своим свободным временем и определял круг собственных интересов [ Kelly , 2007].
В этом контексте анимация предстает как досуговая практика ребенка, изучение которой должно не сводиться к простому перечислению того, что любили смотреть дети, а заключаться в определении места анимации в советской модели детства и анализе ее культурно-исторических, визуально-антропологических, институциональных аспектов.
Мультипликация в отечественной модели детства утвердилась не сразу. В 1910–1920-е гг. она была экспериментальной площадкой для художественного авангарда. Первые мультфильмы были рассчитаны на взрослую аудиторию: шаржи, агитплакаты, карикатуры. Всего через несколько лет после рождения анимации появились мультипликационные произведения, адресованные детям. Гораздо раньше, чем детское игровое кино [Аромштам, 2004, с. 64]. Преимущество мультипликации заключалось в возможности одушевить любых литературных и сказочных героев, в доступно- сти для детского восприятия.
Переломный момент в истории отечественной мультипликации и детства наступил на рубеже 1950 и 1960-х гг., когда стал заметен процесс удлинения и автономизации детства, трансформировалась городская среда, становилось доступным телевидение.
Массовое строительство благоустроенного многоквартирного жилья освободило детей и подростков от многих рутинных домашних обязанностей [ Чащухин , 2008, с. 218]. В 1960–1980-е гг. происходит в определенной степени автономизация детства: дети вырастали в семьях, где был только один ребенок, где родители работали полный рабочий день и не могли уделять много внимания воспитанию детей. А у детей была возможность познания окружающего мира, неконтролируемая или лишь отчасти контролируемая родителями [ Барабан , 2008, с. 444–445].
Телевизор в квартире в 1960–1980-е гг. стал символом благосостояния советского человека, центром частной жизни. До этого просмотр мультфильмов проходил в кинотеатрах, и анимация проигрывала в соперничестве с художественными фильмами. С 1960-х гг. телевизионная аудитория в СССР из точечной достаточно быстро перерастает в массовую. С одной стороны, просмотр мультфильмов «одомашнился», что позволило родителям контролировать его дома, с другой – просмотр индивидуализировался, дети оставались один на один с телевизором. Начинаются дискуссии о негативном влиянии телевидения на детей и необходимости вмешательства взрослых. Они свидетельствует об увеличении роли анимации в жизни ребенка. Проникновению анимации в детскую повседневность способствовали фабричные игрушки, созданные по мотивам популярных мультфильмов, детские анекдоты с участием культурных героев из любимых мультфильмов.
Говоря об историко-культурном, социальном контексте развития анимации, не стоит забывать, что мультипликация – это прежде всего сложная система знаков, с помощью которой отражаются многомерность мира и способность ребенка овладеть различными языками культуры и способами интерпретации [ Аромштам , 2004, с. 68]. Природа мультипликации иная, чем у кинематографии. Если фотографии в нашем сознании приписывается свойство тождественности объекту, а движущаяся фотография только усиливает его, то ожившая живопись воспринимается как искусственная и противоестественная. Привнесение движения увеличивает степень условности, метафоричности мультипликационного языка [ Лотман , 1998, с. 672–673].
Мультипликационный фильм – это также определенный способ высказывания, подчиненный исторически сложившимся, культурно обусловленным правилам [ Усманова , 2007, с. 188], в которых репрезентируются историческое воображение своих эпох. Для его выявления может быть использован анализ визуальных источников [ Bonnel , 1997; Зверева , 2004; Кино..., 1995; Плаггенборг , 2000; Усманова , 2007]: анализ изображения, текста, сопровождающего мультфильм; интерпретация мультфильмов с культурно-исторической точки зрения (какие идеи и каким образом воплощены в мультфильме; кого или что символизирует герой и / или антигерой; каковы социальные, эстетические, визуальные конвенции времени, в котором создавались мультфильмы, атрибуты и символы эпохи). Визуальный анализ мультипликационных лент позволит декодировать типы социальных отношений, общекультурные стереотипы и индивидуальный опыт, политические, социокультурные, гендерные, возрастные установки.
В отличие от взрослой аудитории, которая уже имеет определенные традиции прочтения и понимания образов, дети – аудитория неподготовленная. Поиск и анализ воспоминаний, реплик, рассыпанных в мемуарах, по ностальгическим сайтам и блогам, позволит выявить реальный (если это возможно) детский интерес, ожидания и пристрастия в анимации, детский фольклор, охарактеризовать разные ситуации просмотра мультфильмов, которые могли не соответствовать представлениям взрослых о том, что и как смотрят их дети.
Не менее интересным может быть поиск ответов на вопросы: учили ли детей смотреть мультфильмы, выходила ли методическая литература для родителей, воспитателей, учителей, где бы процедурно описывалось, как ребенок должен смотреть фильмы; что понималось под телевизионным детским временем, какова была доля мультфильмов в нем; какими были «практики бытования» мультфильмов (учебные мультфильмы в школе; детские мультипликационные студии, где дети участвуют в создании мультфильмов и др.), каковы восприятие кино детской аудиторией, ситуации просмотра мультфильмов, закладывавшиеся режимы зрения в мультфильмы, освоение которых зависело от возрастной, гендерной, социальной принадлежности зрителя?
Таким образом, за «несерьезным» жанром, рассчитанным, казалось бы, на конкретную воз- растную аудиторию, стоит не только специфический художественный язык и эстетика, но и система воспитания, механизм интеграции детей в общество, наконец, образ жизни и повседневные практики взрослых и детей. Все это можно обнаружить в институциональной истории мультипликации, отдельных анимационных шедеврах и порожденных ими культурных героях, а также в массовой мультипликационной продукции.
Список литературы От истории анимации к истории детства в СССР: постановка проблемы
- Абольник О. Мастера советской мультипликации. М., 1972.
- Азарх Л. А. Каляевская, 23а//Кинограф. 1999. № 7.
- Анкета «Кинотеатр моего детства»//Искусство кино. 1997. № 8.
- Аромшатм М. Мульти-пульти в философском разрезе//Искусство в школе. 2004. № 5.
- Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999.
- Асенин С. В. Мир мультфильма: идеи и образы мультипликационного кино социалистических стран. М., 1986.
- Бабиченко Д. Н. Искусство мультипликации. М., 1964.
- Барабан Е. С. Фигвам утилитариста//Веселые человечки: культурные герои советского детства: сб. статей. М., 2008.
- Богданова С. О жизни и творчестве А. Г. Снежко-Болоцкой//Кинограф. 2008. № 19.
- Бородин Г. «Союзмультфильм». Ненаписанная история//Киноведческие записки. 2006. № 80.
- Бородин Г. В борьбе за маленькие мысли. Неадекватность цензуры. (Глава из книги «Анимация подневольная»)//Киноведческие записки. 2005. № 73.
- Веселые человечки: культурные герои советского детства: сб. статей. М., 2008.
- Гамбург Е. А. Тайны рисованного мира. М., 1966.
- Евгений Мигунов//Кинограф. 2000. № 8; 2001. № 10; 2007. № 18.
- Зверева С. Н. Советская внешнеполитическая карикатура 1930-х годов: опыт источниковедческого исследования//Источниковедческие исследования. М., 2004. Вып. 1.
- Иванов-Вано И. П. «Эклер» -за и против. Стенограмма доклада «Применение эклерного метода в производстве рисованных фильмов»//Киноведческие записки. 2006. № 80.
- Калверт К. Дети в доме: материальная культура раннего детства, 1600-1900. М., 2009.
- Кашников В. Кидалты совок//Premium. 2008. № 10 (32).
- Кино: политика и люди. 30-е годы. М., 1995
- Котеночкин В. Ну, Котеночкин, погоди! М., 1999.
- Кривуля Н. Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX века. М., 2002.
- Левинг Ю. «Кто-то там все-таки есть…»: Винни-Пух и новая анимационная эстетика//Веселые человечки: культурные герои советского детства: сб. статей. М., 2008.
- Лотман Ю. О языке мультипликационных фильмов//Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 1998.
- Малянтович К. Г. Как на Союзмультфильме получали Сталинскую премию: записки старого мультипликатора//Кинограф. 2000. № 9.
- Мигунов Е. Дёжкин. Какой он был//Каталог-альманах Открытого российского фестиваля анимационного кино. М., 1999.
- Мигунов Е. Из воспоминаний//Кинограф. 2001. № 10.
- Мигунов Е. Т. Новаторам дается не только по голове…//Киноведческие записки. 2006. № 80.
- Наши мультфильмы (Лица, кадры, эскизы, герои, воспоминания, интервью, статьи, эссе). М., 2006.
- Норштейн Ю. Снег на траве: в 2 кн. М., 2008.
- Нусинова Н. «Теперь ты наша»: Ребенок в советском кино: 20-30-е годы//Искусство кино. 2003. № 12.
- Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. URL: http://genproc.gov. ru/news/news-8382/(дата обращения: 05.09.2011).
- Пироженко О. История в картинках: гендерные репрезентации в советской анимации//Гендреные исследования. 2004. № 12.
- Плаггенборг Ш. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000.
- Притуленко В. Адресовано детям: кино, политика и люди: 30-е годы. М., 1995.
- Салова Ю. Г. Детский досуг в Советской России: (1920-е годы): учеб. пос. Ярославль, 2000.
- Сальникова А. А. Трансформация идеалов и жизненных ценностей русской девочки/девушки в первое послеоктябрьское десятилетие//Социальная история: ежегодник: Женская и гендерная история. М., 2003.
- Сальникова Е. Анимационный бум//Новый мир. 2008. № 11.
- Усманова А. «Визуальный поворот» и гендерная история [Электронный ресурс]. URL: http://viscult.ehu.lt/uploads/kharkov_history.doc (дата обращения: 05.09.2011).
- Усманова А. Научение видению: к вопросу о методологии анализа фильма//Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007.
- Цехановский М. Дневники//Киноведческие записки. 2001, 2002. № 54, 55, 57.
- Чащухин А. В. Маникюр -«битлы» -часики. Культовые вещи советского подростка 1960-х годов//Какорея. Из истории детства в России и других странах: сб. статей и материалов. М.; Тверь, 2008.
- Шустова О. Неисчерпаемый потенциал мультипликации//Искусство в школе. 2004. № 2.
- Bonnel V. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. Berkeley, 1997.
- Kelly C. Children's world: growing up in Russia, 1890-1891. New Haven; London, 2007.