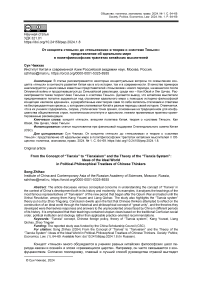От концепта «тянься» до «тяньсяизма» и теории о «системе Тянься»: представление об идеальном мире в политфилософских трактатах китайских мыслителей
Автор: Сун Ч.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые концептуальные вопросы по осмыслению концепта «тянься» в контексте развития Китая как в его истории, так и в современности. В качестве примеров анализируются учения самых известных представителей «тяньсяизма» нового периода, начавшегося после Опиумной войны и продолжавшегося до Синьхайской революции, среди них - Кан Ювэй и Лян Цичао. Рассматривается также теория Чжао Тинъяна о «системе Тянься». Делается вывод, что китайские мыслители предпринимали попытки задуматься над строением идеального мира с помощью историко-философской концепции «великое единение», а разработанные ими теории сами по себе являлись откликами и ответами на беспрецедентные кризисы, с которыми сталкивался Китай в разные периоды своей истории. Отмечается, что в их учениях содержались, скорее, утопические точки зрения, основанные на традиционном для конфуцианства общественном строе, политическом институте и идеологии, нежели применимые практико-ориентированные рекомендации.
Концепт «тянься», внешняя политика китая, теория о «системе тянься», кан ювэй, лян цичао, чжао тинъян
Короткий адрес: https://sciup.org/149144707
IDR: 149144707 | УДК: 321.01 | DOI: 10.24158/pep.2024.1.8
Текст научной статьи От концепта «тянься» до «тяньсяизма» и теории о «системе Тянься»: представление об идеальном мире в политфилософских трактатах китайских мыслителей
Институт Китая и современной Азии Российской академии наук, Москва, Россия, ,
Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, ,
как «добродетельное управление», которое включает следующие элементы: «добиваться самосовершенствования», «в порядке содержать семью», «управлять государством» и «нести Поднебесной мир» (Чжэн Сюань, 1999: 1592).
Сюнь-цзы придерживался позиции, что войны возникают из-за наличия у человека частной страсти, отсутствия иерархии и четких правил. С его точки зрения, эгоизм непреодолим, поэтому создание многоуровневой системы и фиксация правил по распределению ресурсов являются единственными способами достижения стабильности между странами: «<…> выработали нормы ритуала и долга, чтобы [с их помощью] различать [людей], и установили для них ранги, [отличающие] бедного от богатого и знатного от низкого, что позволило им осуществлять всеобщий контроль; таковы основы поддерживания жизни [людей] Поднебесной»1.
Представитель легизма Хань Фэй считал необходимостью при управлении страной установление примата закона: «При управлении Поднебесной непременно следует основываться на людских склонностях. Последние – любовь или отвращение, что дает возможность применять награды и наказания, а в таком случае – установить правила запретительного характера, и тогда путь правления будет выполнен»2, а в противном случае, если «наказания не являются неукоснительными, запрещения не действуют»3. Действие приказов и директив на постоянной основе приводит к стабильности, или, лучше сказать, к дисциплине внутри общества. В частности, подчеркивая роль «ши (конфигурации силы)» в государственном управлении, Хань Фэй говорит: «Ши само по себе не дает возможности добродетельным пользоваться им, а дурным не пользоваться. В первом случае в Поднебесной устанавливается порядок, а во втором, если им пользуются люди негодные, наступает анархия)»4.
На примере всего перечисленного создается впечатление, что достижение тотального управления Поднебесной было конечной целью любого правителя, однако это не являлось легкой задачей, а совершенный лидер, безусловно, должен был отличаться умением управлять всей Поднебесной и держать ее в идеальном гармоничном состоянии. По оценке А. Тойнби, Гао-цзу династии Западной Хань Лю Бан лучше всех других императоров истории Китая, поскольку использовал принцип добродетельного правления. Он извлек уроки из трагедии Циньской империи и деспотического правления циньских императоров и отказался от масштабного применения наказаний как основной меры укрепления своего правления – пытался создать институт гуманного правления, чего как раз не хватало Цинь Шихуан-ди (Toynbee, 1954: 171–174). На деле не только Лю Бан, но и остальные ханьские императоры также только частично использовали принципы легизма в качестве вспомогательных средств, несмотря на то, что они в определенной степени были носителями циньской политической культуры. В период расцвета династии ханьский У-ди (140–85 гг. до н. э.), как известно, пресек конкуренцию «ста школ», однозначно отдав предпочтение конфуцианству (Сун Чжихао, 2023: 82).
А что конкретно понимается под концептом «тянься»? Согласно Сюй Цзилиню, он является двуступенчатым: имеется в виду, с одной стороны, идеал этической иерархии, концентрированный в формулировке «семья – государство – Поднебесная», а с другой – представление в китайской культурно-цивилизационной системе о мировом пространстве, центр которого находится на центральной равнине (Сюй Цзилинь, 2012: 66). В этом идеале все люди и государства независимо от династий и поколений руководства соблюдают верные, абсолютные, единые нормы/принципы ценностей и ритуала. Ценности творятся не руками правителей, а происходят из Неба. Правитель, будучи сыном последнего и держа мандат от него, обязуется лишь распространять эти дары вдали от себя до варварских окраин. Как отмечает Сюй Чжоюнь, в восприятии Китая «Поднебесная» отнюдь не ограничивалась пространством центральной равнины, тем более она не имела пределов, поскольку альтернативной китайскому этическому порядку системы просто не было, страна находилась в центре всех цивилизаций и была обязана учить представителей других этносов и четыре варварства тому, что такое ритуал и этическая иерархия. Появилась таким образом данническая система и пр. (Сюй Чжоюнь, 2010: 20).
В интерпретации американского синолога Джозефа Левенсона концепты «тянься» и «го» в идейно-политической истории (особенно древнего периода) Китая занимали равное место. «Тянься» дословно обозначает «Поднебесную империю», что и есть «мир». Следовательно, за этим концептом кроется понимание, что Китай – это весь мир. А «го», то есть «государство» в современном лексиконе, является политико-административной единицей местного уровня и только частью «Поднебесной империи». Следует принять во внимание тот нюанс, что концепт
«го» символизирует в древней истории Китая власть и силу, а также одновременно представляет собой по-настоящему существующий объект, который с помощью власти и силы может функционировать. «Тянься» физически и институционально не существует, это, скорее, – комплекс ценностей, требующий от подчиненных ему людей уважения, и не позволяющий им сомневаться в своей абсолютной легитимности существования (Levensоn, 1958: 98–100).
Потому, когда мы обсуждаем вопросы о национальном самосознании древнего Китая, всегда чувствуется явное противоречие. С одной стороны, Китай обладал всеми политическими ресурсами, управлял центральной равниной и регулировал отношения с четырьмя варварствами вокруг себя, принимая от них дань и проявляя готовность выстраивать отношения и обеспечивать распространение своей культуры и ценностей. Но, с другой стороны, нетрудно заметить в его действиях оттенки китаецентризма и пренебрежительное отношение ко всем варварам. Важно отметить, эти две стороны дополняли друг друга и только в совокупности могут представить общую картину самоидентификации древнего Китая.
Отталкиваясь от этого, некоторые представители китайского научного сообщества стали исследовать так называемый «тяньсяизм». По их мнению, в доциньский период он в основном отражался в конфуцианской концепции «великого единения». Суть ее раскрывается во всей полноте в главе «Ли юнь (Действенность ритуала)» трактата «Ли цзи», где говорится: «Когда шли по великому пути, Поднебесная принадлежала всем, [для управления] избирали мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии»1.
В конфуцианстве уделяется внимание стремлению к соблюдению «ритуала», который всеобще существует в межчеловеческих отношениях, основываясь на кровном родстве и соответственной нравственно-этической связи, на обыденной жизни. Ведь каждый человек, в видении конфуцианства, имеет и должен занимать свое место в обществе, и, таким образом, не возникало бы вообще беспорядка и ситуации, когда «и ритуал, и музыка придут в упадок». Как мы выше отметили, примером соблюдения «ритуала» для всей Поднебесной должен выступать именно правитель со своей политикой «добродетельного правления».
Мо-цзы придерживается аналогичного мнения: «Только сын Неба может создавать единый образец справедливости в Поднебесной, поэтому в Поднебесной воцарился порядок»2.
В новый период истории Китая некоторые мыслители извлекли уроки из теоретического строя традиционного «тяньсяизма» с учетом проблем его применения и реальной потребности в нем в условиях современности и разработали так называемый «новый тяньсяизм». К числу наиболее известных представителей этого идейно-политического течения относятся Кан Ювэй и Лян Цичао.
Кан Ювэй в этом плане известен своим учением, изложенным в «Книге о Великом единении». Ученый, ссылаясь на Конфуция, создавал идеальное в своем понимании общество для всего китайского народа. Его идея опиралась на рассуждения по эволюции социума, отраженные в главе «Действенность ритуала». В идеале, «когда шли по великому пути, Поднебесная принадлежала всем», приходит эпоха «великого единения», а когда «ныне великий путь скрылся во мраке, а Поднебесная стала достоянием [одной] семьи», люди живут в «малом умиротворении»5. Кан Ювэй опровергал это мнение и предлагал другой порядок: общество эволюционирует с «эры Хаоса», «Рождающегося мира», где должно воцариться «милое умиротворение», вплоть до будущего «Великого мира», свидетельствующего о поступлении «великого единения» (Кан Ювэй, 1994: 10).
Важно принимать во внимание предложенные философом прочные условия достижения последнего на уровне национального государства. Границы между странами исчезают в результате аннексии, и количество государств уменьшается – это одна сторона пионерных условий (Кан Ювэй, 1994: 87). Народовластие снизу наверх на примере основания США и французской буржуазной революции вместе с последующим введением Конституции – вторая сторона «пионерных условий» (Кан Ювэй, 1994: 88). Создание единого мира, уничтожая все границы, под руководством правительства всех земель является институтом «великого единения» (Кан Ювэй, 1994: 89). А началом перехода к «великому единению» представляется установка правительства всех земель (Кан Ювэй, 1994: 95–98). Есть мнение, что в написании «Книги о Великом единении» Кан Юйвэй был вдохновлен не только конфуцианством, но и буддизмом (концепциями о равноправии, милосердии и Сукхавати (Обитель блаженства, или Чистая земля), эволюционным учением Ч. Дарвина, теорией естественного права Ж. Руссо и утопическим социализмом Ш. Фурье, Р. Оуэна и др. Поэтому он разделяет такие либеральные ценности, как свобода, равноправие, человеколюбие, сильно отличающиеся от конфуцианских.
Не стоит забывать, что Кан Ювэй после Первой опиумной войны состоял в группе реформистов. Они призывали взять образец с западных капиталистических стран и у них учиться: «из исторических записей мы ничего подобного не можем наблюдать с глубокой древности до сегодняшнего дня, чтобы кто-то стучался в закрытую дверь и требовал свободы торговли… это поистине что-то новое за последние три с лишним тысячи лет». Например, ими была выдвинута инициатива «учиться у варваров, чтобы использовать их знания против их же» и призыв «открывать глаза, чтобы видеть мир», которые, по сути, являлись отражением принципа «китайское – в качестве основы, западное – в качестве прикладного» в идейном плане, а в западные знания прежде всего включались инновационные технологии и промышленные продукты (Сун Чжихао, 2022: 59). В восприятии реформистов западные страны выступали «учителями», а Китаю отводилась роль «ученика», однако они понимали, что осваивать технологии и промышленное производство Запада недостаточно для того, чтобы его превзойти. Нужно было что-то новое в качестве идеологического и религиозного ориентира для китайского общества. Попытки поиска последнего Кан Ювэя закреплены в его втором, не менее важном труде «Исследование по институциональным реформам Конфуция». Он считает изложение учения всеми доциньскими философскими школами попытками основания религий, среди всех он симпатизирует конфуцианству. Кан Ювэй считал необходимым восстанавливать его как государственную религию на территории Китая с заимствованием полезных христианских правил, чтобы воскресли «учение школы Гунъяна», «реформированные Конфуцием институты», «теория о трех мирах» в пользу «национальных интересов», а не «интересов Поднебесной» и «интересов кланов и кровных родов» (Кан Ювэй, 1898: 3).
Цинский ученый Цзянь Бозан, являясь противником западных знаний, критиковал Кан Ювэя в том, что он, «руководствуясь западными теориями о народовластии и равноправии, пытается отождествлять Конфуция с Моисеем, а себя – с Иисусом, в чем на самом деле скрывается его стремление сделать Китай христианским, а не конфуцианским» (Цзянь Бозан, 1957). Эта претензия верна только частично. Действительно, Кан Ювэй не раз в докладах трону писал о преимуществе западных знаний, в том числе касающихся политического устройства и религиозного строя. Но существовало мнение, согласно которому Кан заявляет о полном принятии христианства и западных ценностей, проявляет желание с их помощью модернизировать конфуцианство, однако его доклады трону носят отнюдь не международный и универсальный характер, а национальный и местный (Гу Чаншэн, 1981: 180). Иными словами, Кан Ювэй не выходил за рамки принципа «китайского в качестве основы» и пытался как раз защищать интересы Поднебесной.
Причина этого заключается в том, что философ нашел также немало недостатков западного общественного института, лично побывав в Европе и Америке: «Заявляется о всеобщем равноправии, а на вечернях редко бывали вдовы» (Кан Ювэй, 1994: 34), «за бедными пожилыми дети не ухаживают, одиноким и нищим некуда обращаться [за помощью], поскольку все люди независимы друг от друга» (Кан Ювэй, 1994: 62), «функционирует институт наказания и тюрьмы» (Кан Ювэй, 1994: 42) и др. Такого рода противоречие представлялось для Кан Ювэя свидетельством, что западные страны институционально и религиозно всего лишь немного лучше Китая, не больше, а вот конфуцианское «великое единение» способствовало бы улучшению жизни и западных народов, не говоря о Китае. Так вся Поднебесная могла бы быть спасена.
Кан Ювэй оказывал непосредственное влияние на формирование учения Лян Цичао. Последний на основе теории Кан Ювэя «о трех мирах» разработал свою более сложную концепцию «о трех мирах с шестью различиями». В ней он исходил из положений о том, что существуют три мира в зависимости от типов руководства, а именно «мир под руководством многих государей», «мир под руководством одного государя» и «мир народного правления», и конкретизировал каждый из них в соответствии со сменой династий, империй и политических институтов в глобальной истории. В «мире под руководством многих государей» по этапам развития проходят один за другим «мир вождя племени» и «мир феодального лидера и канцлера». «Мир под руководством одного государя» включает в себя «мир монаха» и «мир совместного правления монаха и народа». Третий «мир народного правления» делится на «мир с президентом» и «мир без пре- зидента». Корреляция с «теорией о трех мирах» заключается в том, что в «мире под руководством многих государей» приходит именно «эра Хаоса», «миру под руководством одного государя» сопутствует «Рождающийся мир», а только «мир народного правления» отождествляет «Великий мир» (Лян Цичао, 2001: 84–87). Вдохновленный эволюционной теорией Дарвина, Лян Цичао был приверженцем концепции исторического прогресса и полагал, что человеческое общество развивается от простого до сложного, с низшей до высшей ступени. А движущей силой развития должна быть человеческая природа по принципу борьбы за жизнь и победы в ней самых приспособленных. «Любой старается быть сильным и лучшим. Эта логика применима и для человека, и для государства. То, что каждый, хотя занимается самоусилением, а сильный все-таки обижает и уничтожает слабого, не считается свидетельством не-Дао, это как? Это ведь аксиома естественной эволюции» (Лян Цичао, 2001: 789).
Лучшая форма общественного строя в видении Лян Цичао выглядит как «вся Небесная в одной семье» (Лян Цичао, 2001), а теоретическая дорожная карта представляется им сквозь призму конфуцианского принципа гуманности (Ван Цзиньлян, 2018: 61). По большому счету, чувство отзывчивости и сочувствия имеется у каждого человека как единицы существования и функционирования общества. «Гуманный» мир, то есть мир «великого единения», будет построен тогда, когда это чувство разовьется до наивысшей степени, а «правление по конфуцианству реализуется с помощью ритуала и человека» (Лян Цичао, 2001: 3068). При этом «конечная цель конфуцианства заключается в воспитании каждого человека общества, чтобы все люди стали добродетельными» (Лян Цичао, 2001: 3080).
Завершив разговоры о тяньсяизме в новой истории, переходим к современности. К числу наиболее известных исследователей, пожалуй, относится академик Чжао Тинъян, автор теории о «системе Тянься». Он пытался в своей теории обсуждать возможность создания мира «у вай», вся деятельность которого должна руководствоваться своего рода мировой конституцией. Последняя призвана обеспечивать в условиях диверсификации культур и цивилизаций стабильность в мировом масштабе, а также совместное использование всеми народами результатов цивилизационного развития. В мире «у вай» нет ресурсов, технологий, знаний, исключительных для конкретных групп государств, тем более нет и самого институционального основания такой исключительности (Чжао Тинъян, 2018: 7).
Размышление о «системе Тянься» началось с двух проблем политической философии: верного мира И. Канта (Кант, 2019) и столкновения цивилизаций С. Хантингтона (Хантингтон, 2003). Как известно, И. Кант в своем труде «К верному миру», опубликованном впервые в 1795 г., прописывал конкретные принципы и необходимые действия для построения такого нового мира, начиная с принципа «ни один мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении тайно сохраняется основа новой войны» вплоть до действия государственного, международного и «всемирно-гражданского» права (Кант, 2019: 249, 301–305). Уместно считать, что планы И. Канта по вечному миру актуальны только для политически и культурно схожих государств, однако они утрачивают свою правомерность при анализе взаимоотношений разных цивилизаций. Это как раз подтверждено теорией С. Хантингтона. Чжао Тинъян полагал поставленные И. Кантом и С. Хантингтоном проблемы неразрешимыми, так как в рассуждениях этих мыслителей учтена лишь индивидуальная рациональность, которая непосредственно напоминает теорию об эгоизме согласно реалистической парадигме в международных отношениях, поэтому они априори не способны решать глобальные проблемы (Чжао Тинъян, 2016: 221–225).
В современном мире реализм как теория международных отношений, появившаяся еще во второй половине XX в., все еще является актуальным. Чжао Тинъян отрицает бытие и состояние современности как настоящий мир, для более четкого его обозначения он использовал термин «не-мир (non-world)». Настоящий мир должен строиться в духе «великого единения»; в нем существует и функционирует всеобще эффективный политический институт, в рамках которого сотрудничество с Поднебесной оказывается на пользу всем заинтересованным сторонам и носит исключительно мирный характер. Такой мир Чжао Тинъян называл «хорошим» в противовес «плохому», отождествляющему мир «эры Хаоса», в котором все больше становится конфликтов, а все меньше – сотрудничества (Чжао Тинъян, 2011: 123).
Подытоживая все изложенное, целесообразно отметить, что, по мнению китайских мыслителей, идеальный мир должен быть построен по концепту «тянься». Но этот идеал, с нашей точки зрения, содержит мало реализуемого и практикоориентированного. Разработанные в разные исторические периоды теории, таким образом, представляются утопическим взглядом на некое возможное прекрасное будущее, которое должно основываться на конфуцианском «великом единении».
Список литературы От концепта «тянься» до «тяньсяизма» и теории о «системе Тянься»: представление об идеальном мире в политфилософских трактатах китайских мыслителей
- Кант И. К вечному миру. М., 2019. 434 с.
- Сун Чжихао. Новый этап современной внешней политики Китая сквозь призму концептов «путь» (дао) и «конфигурации силы» (ши) // Мировая экономика и международные отношения. 2023. Т. 67, № 2. С. 78–92. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2023-67-2-78-92.
- Сун Чжихао. От дискуссий о смысле «мирного подъема» до ценностных ориентиров современной внешней политики: некоторые взгляды из Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2022. № 3. C. 56–71. https://doi.org/10.31857/S013128120020542-7.
- Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. М. ; СПб., 2003. 603 с.
- 翦伯赞。戊戌变法。 上海,1957年。 450 p.= Цзянь Бозан. Реформа 1898 года. Шанхай, 1957. 450 с. (на кит. яз.).
- 康有为。大同书。沈阳,1994年。 350p.= Кан Ювэй. Книга о Великом единении. Шеньян, 1994. 350 с. (на кит. яз.).
- 康有为。康有为全集。北京,1898年。 卷。 3. 524 p.= Кан Ювэй. Полное собрание сочинений. Пекин, 1898. Т. 3. 524 с. (на кит. яз.).
- 许纪霖。天下主义/夷夏之辩及其在近代的变异 = Сюй Цзилинь. «Тянься»: различия между цивилизацией и варварством и их вариации в наше время // Журнал Восточно-Китайского педагогического университета. 2012. № 6. Р. 66–75. (на кит. яз.).
- 梁启超。饮冰室文集点校。昆明,2001年。 3919 p.= Лян Цичао. Труды Инбинши. Куньмин, 2001. 3919 с. (на кит. яз.).
- 王金良。大同、国家与天下——梁启超的世界主义思想及其意义。= Ван Цзиньлян. Великая гармония, нация и «Тянься»: идея космополитизма Лян Цичао // Международное обозрение. 2018. № 1. С. 53–65. (на кит. яз.).
- 许倬云。我者与他者:中国历史上的历史分际。北京。= Сюй Чжоюнь. «Я» и «другой»: исторические разделения в исто-рии Китая. Пекин, 2010. 158 с. (на кит. яз.).
- 赵汀阳。天下体系:世界制度哲学导论。北京 = Чжао Тинъян. Система «Тянься»: введение в философию мирового института. Пекин, 2011. 271 с. (на кит. яз.).
- 赵汀阳。天下究竟是什么?– 兼回应塞尔瓦托·巴博纳斯的“美式天下” = Чжао Тинъян. Что такое «Все-под-небом»? С ответами на вопросы Сальваторе Дж. Бабонеса об «американской “Тянься”» // Журнал Юго-Западного университета национальностей. 2018. № 1. С. 7–14. (на кит. яз.).
- 赵汀阳。天下的当代性:世界秩序的实践与想象。北京 = Чжао Тинъян. Возможный мир системы «Все-под-небом»: ми-ровой порядок в прошлом и на будущее. Пекин, 2016. 283 с. (на кит. яз.).
- 郑玄。《礼记》正义。= Чжэн Сюань. Правильное значение «Книги обрядов». Пекин, 1999. 1678 с. (на кит. яз.).
- 顾长声。传教士与现代中国。上海,1981年。 461页。= Гу Чаншэн. Миссионеры и современный Китай. Шанхай, 1981. 461 с. (на кит. яз.).
- Levenson J.R. Confucian China and Its Modern Fate: in 3 volumes. L., 1958. Vol. 1: The Problem of Intellectual Continuity. 248 p.
- Toynbee A.J. A Study of History: in 12 volumes. L., 1954. Vol. 7. 781 p.
- Сун Чжихао. Новый этап современной внешней политики Китая сквозь призму концептов «путь» (дао) и «конфигурации силы» (ши) // Мировая экономика и международные отношения. 2023. Т. 67, № 2. С. 78–92. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2023-67-2-78-92.
- Сун Чжихао. От дискуссий о смысле «мирного подъема» до ценностных ориентиров современной внешней политики: не-которые взгляды из Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2022. № 3. C. 56–71. https://doi.org/10.31857/S013128120020542-7.
- Хантингтон С.Ф. Столкновение цивилизаций. М. ; СПб., 2003. 603 с.
- 翦伯赞。戊戌变法。 上海,1957年。 450 p.= Цзянь Бозан. Реформа 1898 года. Шанхай, 1957. 450 с. (на кит. яз.).
- 康有为。大同书。沈阳,1994年。 350p.= Кан Ювэй. Книга о Великом единении. Шеньян, 1994. 350 с. (на кит. яз.).
- 康有为。康有为全集。北京,1898年。 卷。 3. 524 p.= Кан Ювэй. Полное собрание сочинений. Пекин, 1898. Т. 3. 524 с. (на кит. яз.).
- 许纪霖。天下主义/夷夏之辩及其在近代的变异 = Сюй Цзилинь. «Тянься»: различия между цивилизацией и варварством и их вариации в наше время // Журнал Восточно-Китайского педагогического университета. 2012. № 6. Р. 66–75. (на кит. яз.).
- 梁启超。饮冰室文集点校。昆明,2001年。 3919 p.= Лян Цичао. Труды Инбинши. Куньмин, 2001. 3919 с. (на кит. яз.).
- 王金良。大同、国家与天下——梁启超的世界主义思想及其意义。= Ван Цзиньлян. Великая гармония, нация и «Тянься»: идея космополитизма Лян Цичао // Международное обозрение. 2018. № 1. С. 53–65. (на кит. яз.).
- 许倬云。我者与他者:中国历史上的历史分际。北京。= Сюй Чжоюнь. «Я» и «другой»: исторические разделения в исто-рии Китая. Пекин, 2010. 158 с. (на кит. яз.).
- 赵汀阳。天下体系:世界制度哲学导论。北京 = Чжао Тинъян. Система «Тянься»: введение в философию мирового института. Пекин, 2011. 271 с. (на кит. яз.).
- 赵汀阳。天下究竟是什么?– 兼回应塞尔瓦托·巴博纳斯的“美式天下” = Чжао Тинъян. Что такое «Все-под-небом»? С ответами на вопросы Сальваторе Дж. Бабонеса об «американской “Тянься”» // Журнал Юго-Западного университета национальностей. 2018. № 1. С. 7–14. (на кит. яз.).
- 赵汀阳。天下的当代性:世界秩序的实践与想象。北京 = Чжао Тинъян. Возможный мир системы «Все-под-небом»: ми-ровой порядок в прошлом и на будущее. Пекин, 2016. 283 с. (на кит. яз.).
- 郑玄。《礼记》正义。= Чжэн Сюань. Правильное значение «Книги обрядов». Пекин, 1999. 1678 с. (на кит. яз.).
- 顾长声。传教士与现代中国。上海,1981年。 461页。= Гу Чаншэн. Миссионеры и современный Китай. Шанхай, 1981. 461 с. (на кит. яз.).
- Levenson J.R. Confucian China and Its Modern Fate: in 3 volumes. L., 1958. Vol. 1: The Problem of Intellectual Continuity. 248 p.
- Toynbee A.J. A Study of History: in 12 volumes. L., 1954. Vol. 7. 781 p.