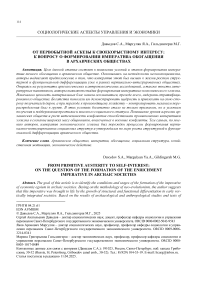От первобытной аскезы к своекорыстному интересу: к вопросу о формировании императива обогащения в архаических обществах
Автор: Давыдов С.А., Маргулян Я.А., Гильдингерш М.Г.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Социологические аспекты управления и экономики
Статья в выпуске: 2 (152), 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи состоит в выявлении условий и этапов формирования императива личного обогащения в архаическом обществе. Основываясь на методологии неоэволюционизма, авторы выдвигают предположение о том, что императив этот был вызван к жизни ростом структурной и функциональной дифференциации уже в ранних вертикально-интегрированных обществах. Опираясь на результаты археологических и антропологических исследований, а также тексты литературных памятников, авторы выявляют стадии формирования императива экономического эгоизма. Изначально ценность материальных благ начала осознаваться, прежде всего, лидерами стратифицированного общества. Богатства помогали им демонстрировать щедрость и привлекать на свою сторону получателей даров, а при переходе к производящему хозяйству – контролировать механизм перераспределения благ в группе. В этих условиях богатство стало не только признаком, но и условием получения и поддержания престижа и высокого социального статуса. Повышение уровня агрессии архаических обществ и рост интенсивности конфликтов способствовали проникновению императивов эгоизма в сознание широких масс общинников, вовлеченных в военные конфликты. Тем самым, по мнению авторов, императив экономического эгоизма был порожден процессом формирования вертикально-интегрированных социальных структур и утверждался по мере роста структурной и функциональной дифференциации архаического общества.
Архаическое общество, императив, обогащение, социальная структура, хозяйственная мотивация, экономическое действие
Короткий адрес: https://sciup.org/148331224
IDR: 148331224
Текст научной статьи От первобытной аскезы к своекорыстному интересу: к вопросу о формировании императива обогащения в архаических обществах
Вопрос об экономической мотивации как движущей силе капиталистической экономики стал предметом широкого общественного обсуждения еще с начала европейской индустриализации, а на протяжении XIX века занимал одно из центральных мест в научном дискурсе. В классической социально-экономической науке позапрошлого столетия господствовала парадигма, согласно которой императивы «экономического человека» формировалась в экономически развитых странах по историческим меркам в относительно сжатые сроки. Так, Э. Дюркгейм [10] и Ф. Теннис [22] полагали, что их формирование происходило в ходе качественного изменения социальной организации в Западной Европе при ее переходе капитализму, в рассмотрениях М. Вебера [6, с. 61-272] «дух капитализма» был обязан своим рождением появлению европейского протестантизма, а В. Зомбарт [12] хотя и отводил в процессе формирования императивов «экономического человека» ведущую роль другому аврамическому вероисповеданию – иудаизму, тем не менее, полагал, что их утверждение стало следствием того специфического социального положения, которое занимали евреи в европейских странах и их колониях в период от позднего Средневековья и до Нового времени. Характеризуя подобную парадигму в целом, можно сказать, что действовавшие в ее рамках исследователи ограничивали круг поиска «прародины» идеи хозяйственного эгоизма, помещая в фокус своего внимания наиболее развитые страны Европы и Северной Америки, и не выходя в своем анализе за пределы исследования относительно короткой истории европейской хозяйственной культуры.
Появление в середине XX века неоэволюционистской парадигмы кардинальным образом изменило положение вещей. Она обеспечила выход за рамки социокультурного понимания процесса формирования ценности личного обогащения и позволила постулировать тесную связь межу формированием императивов «экономического человека» и усложнением социальной структуры вне зависимости от особенностей духовной культуры конкретных обществ. [24, р. 6; 31] Это позволяло скинуть эгиду этноцентризма с представлений о формировании ценностей экономического эгоизма и обратить исследовательский интерес к изучению хозяйственной культуры, в том числе и неевропейских народов, и в глубокой ретроспективе. Так в фокусе анализа исследователей оказались архаические общества – находившиеся в разных частях света и различавшиеся по культуре, но схожие, однако, в своей способности обеспечивать согласованное и поступательное развитие социальной структуры и предписаний по ведению хозяйственной деятельности на протяжение очень длительного времени. Именно в этих обществах были обнаружены первые практики личного обогащения, и именно там появились первые результаты их осуществления, выходящие далеко за пределы хозяйственной сферы.
К вопросу о «неэкономическом характере» хозяйственной деятельности в ранних производящих обществах
С момента выхода в свет «Великой трансформации» Карла Поланьи большинство социологов солидаризировалось с позицией автора, усматривающего в качестве главного критерия отличия архаической экономики от современной отсутствие в первой специфической мотивационной системы. Так, Поланьи утверждал: «Гипотеза Адама Смита об экономической психологии первобытного человека была столь же ложной, как и представления Руссо о политической психологии дикаря, … а пресловутая «склонность человека к торгу и обмену» почти на сто процентов апокрифична» [18, с. 56]. В этих условиях хозяйственные агенты в своих действиях ориентировалась не на экономические, а на социальные цели, вследствие чего хозяйственная система ранних производящих обществ приводилась в движение мотивами, чуждыми мотивам «экономического человека».
Но в этом случае закономерно возникает вопрос о том, как хозяйственная система, растворенная в системе социальных отношений и не создававшая экономических стимулов к деятельности, могла породить мотивационную систему, на которой основывается современная экономика? Попытаемся ответить на этот вопрос, отталкиваясь от посылок субстантивистской методологии и базируясь на обширных исторических и антропологических данных.
Здесь, прежде всего, следует принять во внимание рассмотрения Марселя Мосса, изложенные им в «Очерке о даре». Так, Мосс полагал, что в архаических обществах центральной фигурой хозяйственной деятельности была группа, а не индивид. «Сначала, – писал он, – принимают на себя взаимные обязательства, обмениваются и договариваются не индивиды, а коллективы; участвующие в договоре являются юридическими лицами: это кланы, племена, семьи, которые встречаются и сталкиваются друг с другом группами либо непосредственно, либо через посредничество своих вождей, либо обоими способами одновременно» [16, с. 88-89].
Важно понимать, что операции с вещами в древнем мире несли в себе не столько экономический, сколько символический смысл. Действительно, ценность передаваемого в дар предмета, вероятно, не была способна отчуждаться от одного человека и присваиваться другим в ходе единовременной трансакции. Ведь ценность его проистекала не из внутренних свойств предмета удовлетворять потребности и не из его способности обмениваться на другие вещи в определенной пропорции, а из того, что приписывали акту его передачи в другие руки традиции, обычаи и верования данной группы. В таких условиях, согласно А. Вайнеру, значение передаваемого в дар хозяйственного блага «оценивалось субъективно и вне связи с меновой или абстрактной денежной стоимостью подарка» [34, р. 194].
Так, соулава и мвали, обладавшие высокой ценностью в глазах жителей архипелага Массин, не могли принести их хозяевам практической пользы, а значение их приписывалось обычаем и проявлялось лишь в процессе обмена дарами. Говоря о полезности подобного рода предметов, Ж. Бодрийяр называл ее символической и утверждал, что она может обнаруживаться лишь в процессе символического обмена, и связана с различительной логикой знака [3, с. 164]. Не случайно культуры разных групп нередко приписывали одной и той же трансакции совершенно различный смысл. Но и те предметы, которые имели утилитарное значение, не были лишены символического смысла. Например, у жителей Андаманских островов подарки укрепляют узы доверия, «скрепляют брак, образуют родство между двумя парами родителей. Они придают двум сторонам единую сущность, [при этом] группы родственников … больше … не видятся друг с другом, не разговаривают, но непрерывно обмениваются подарками» [16, с. 113].
Отличительной особенностью первобытного обмена являлось то, что нередко он имел обязательный характер. Это относилось ко всем компонентам обменных операций, что накладывало на человека обязанность делать дары, обязанность принимать дары, и обязанность отдариваться. Например, у многих племен Азии и Африки до сих пор считается правильным, что в постоянном пользовании должны находиться только самые необходимые предметы, остальные же должны постоянно менять своих хозяев. Аналогичные правила существовали и у европейских народов, например, у древних скандинавов [7, с. 416]. Здесь важно отметить, что ни сами обязывающие включаться в дарообмен правила, ни институты социального контроля над их соблюдением, хотя и не носили формального характера, но, тем не менее, подлежали неукоснительному соблюдению. Так, во многих архаичных обществах «отказаться дать, пригласить, так же как и отказаться взять, тождественно объявлению войны; это значило отказаться от союза и объединения» [16, с. 101-102]. Нередко лицо, нарушившее эти неписанные правила, подвергало себя риску потерять свободу или саму жизнь.
Таким образом, можно утверждать, что в доклассовых обществах производимые и передаваемые вещи не обладали той самоценностью, которой они обладают в наши дни, оперирование ими было регламентировано строгими предписаниями, вследствие чего хозяйственная деятельность являлась органичной частью социо-культурной деятельности, неотделимой от широкого культурного и социального контекста.
Факторы формирования экономической мотивации в ранних вертикально-интегрированных обществах
Несложно понять, что в условиях социальной детерминации культурно-хозяйственной жизни воспроизводство практик оперирования вещами могло происходить только в относительно небольших по численности группах, члены которых были связаны друг с другом единой культурой, а также отношениями родства или соседства. Естественно, рост численности и плотности населения не мог не отразиться на изменении мотивов хозяйственной деятельности. Этому способствовал ряд причин, коренящихся в социальной природе обмена.
Начать рассмотрения следует с того, что получатель предмета не всегда мог в полной мере возместить свое приобретение ответным даром. Иногда такое происходило в силу его неспособности выступать в качестве равносильной стороны дарообмена. Но в ряде случаев даритель использовал в качестве подарка предметы, не способные быть замещенными. Подобные трансакции присутствует и в современной экономике, на что обращал внимание Р. Хант, утверждавший, что даже в современных незападных индустриальных обществах – в Индии, в Китае, на Таиланде и Мьянме – «некоторые перемещения вещей не являются обменом, и мы должны признать это различие» [29, р. 300]. Не следует сомневаться в том, что в доиндустриальных обществах случаи невозврата дара имели весьма широкое распространение хотя бы в силу отсутствия у хозяйственных агентов «количественного» мышления, способного приписать передаваемому предмету обменные пропорции [17, с. 27]. В этих условиях даритель неизбежно возвышался над одариваемым.
Во многом этому способствовали верования древних людей. Так, во многих архаических культурах было принято усматривать тесную связь межу материальным или духовным миром и считать, что вещи обладают духовной силой [16, с. 98]. В связи с этим принять подарок и оставить его без ответного дара означало попасть в духовную зависимость от дарителя. В то, что власть дарителя распространяется на получателя подарка, верили и древние европейцы. Например, в одной из древненорвежских легенд ее герой Картьян Олафссон получил в дар плащ конунга, после чего счел себя обязанным принять христианство и поступить на службу к дарителю [21].
Возвышение над одариваемым поначалу не имело экономического смысла для дарителя, но отнюдь не противоречило его социальным целям. Его расчет состоял не в том, чтобы в перспективе извлечь из такой трансакции материальную выгоду, а в том, чтобы усилить свой авторитет и влияние [8, с. 36-38]. Например, Бронислав Малиновский описывал туземцев, имевших типичные для архаичного общества представления о том, что богатство не должно задерживаться в одних руках надолго [15, с. 83]. От человека ждали, что он поделится с другими, и он должен был оправдывать эти ожидания. Желая получить известность и влияние, обладатель богатства вынужден демонстрировать щедрость и даже расточительность: например, у огузов была поговорка: «Не сгубив своего имущества, человеку не прославить себя (щедростью)» [23, с. 184].
В подобном культурном контексте богатство неизбежно становится ресурсом повышения социального статуса. Ведь оно позволяло его обладателю производить щедрые раздачи, а его честолюбие вынуждает делать это. В этих условиях обладание богатством становится верным признаком щедрости – качества, присущего человеку, заслуживающему высокого социального положения и укрепляющего его авторитет. Малиновский отмечал, в связи с этим, что понять описываемую культуру нельзя, если упустить из внимания то, «что обладать для туземца – значит отдавать. И в этом туземцы существенно отличаются от нас... Следовательно, главным признаком могущества является богатство, а главным признаком богатства – щедрость… [которая] для них сама суть добра» [15, с. 112].
Следуя этой логической линии, Мосс обратил внимание на исключительный рационализм людей, совершающих кажущиеся сугубо «иррациональными» акты расточительности лиц, вовлеченных в потлач. «Индивидуальный престиж вождя и престиж его клана, – писал он, – тесно связаны с расходами и точным ростовщическим расчетом при возмещении принятых даров, с тем, чтобы превратить в должников тех, кто сделал вас должниками. Потребление и разрушение при этом действительно не знают границ. В некоторых видах потлача от человека требуется истратить все, что у него есть, и ничего не оставлять себе. Тот, кому предстоит быть самым богатым, должен быть также самым безумным расточителем» [15, с. 140].
Можно отметить, что практики укрепления авторитета лидера через задабривание окружающих щедрыми подарками были важным элементом культуры не только оседлых народов, но и кочевых.
И чем острее была необходимость в поддержании своего престижа, тем щедрее были раздачи. Например, Угэдэй, принявший монгольскую державу из рук Чингисхана, пытался хоть в чем-то сравняться в славе со своим великим предшественником, используя для этого широкие раздачи, далеко выходившие за рамки традиции [20, с. 49].
Устанавливавшаяся между дарителем и одариваемым зависимость с неизбежностью порождала па-трон-клиентские отношения. Они характеризовались тем [30, р. 151-152; 35, р. 16-18], что включенные в них агенты обладали неравным объемом материальных, социальных и символических ресурсов, но при этом не теряли эмоциональной связи друг с другом и строили неформальные взаимоотношения на основе взаимных обязательств, групповой солидарности и обоюдной заинтересованности. Так, С. Эй-сенстадт и Л. Ронигер отмечают, что подобные отношения отличаются тем, что «во-первых, в них очевидным образом сочетаются социальное неравенство и неравномерность в распределении властных ресурсов с оной стороны, и явная сплоченность и сопричастность, взаимная ответственность и сопереживание всех членов группы – с другой; во-вторых, в них сочетаются добровольность в принятии на себя обязательств и принудительный характер их исполнения; в-третьих, в отношениях межу патронами и их клиентами формально выраженная взаимность и сопричастность сочетается с известной неформальностью подобных отношений» [26, р. 49].
Пользуясь ресурсами патрон-клиентских отношений, лидеры архаического общества стремились использовать свое все возрастающее влияние для увеличения своего богатства путем эксплуатации зависимых людей [9]. Получая в свое распоряжение дополнительные трудовые и материальные ресурсы, они, по мнению М. Вэбба, одновременно укрепляли свой авторитет, чем еще больше расширяли круг своих сторонников [33]. Тем самым, патрон-клиентские отношения благоприятствовали поддержанию положительной обратной связи между богатством, концентрировавшимся в руках лидеров, с одной стороны, и его влиянием, и престижем – с другой.
Впрочем, на первоначальных этапах само по себе богатство не приносило прямой выгоды его обладателю. Ведь, согласно распространенным представлениям древних людей, богатство лидера не принадлежало ему лично, а « рассматривалось как магически необходимое для процветания всего коллектива» [19, с. 321]. Его влияние определялось не размером контролируемого им богатства, а местом, которое ему удавалось занять в системе «власти-собственности» [5]. В этих условиях не сами по себе материальные ресурсы, а накопленные с их помощью неисполненные обязательства все еще являлись действительным объектом личного накопления. В качестве ее меры рассматривалось количество зависимых людей – жен, детей, домочадцев, невольников и клиентов [19, с. 322]. Поэтому в глазах древнего человека богатство все еще не обладало самоценностью, а рассматривалось им лишь в качестве необходимого средства для накопления социального и символического капитала. Но с развитием общества роль богатства в жизни общества начинала возрастать.
Формирование императива личного обогащения в ранних вертикально-интегрированных обществах Одной из причин, давших толчок этому процессу, могло стать имеющее исключительно «неэкономическую» природу стремление древнего человека к закреплению завоеванного им влияния и престижа. Поначалу общественное признание человека порождалось в ходе обменных операций и не могло поддерживаться иначе как в результате его участия в этих операциях в качестве участника неэквивалентного обмена, сумевшего оставить в должниках других [1, с. 104-105; 4, с. 29]. Завоевав высокое положение, человек принимал на себя обязанности «старшего» постоянно одаривать «младших», а те имели обязанность и одновременно привилегию принимать дары и пользоваться ими. Подобного рода патрон-клиентские отношения порождали ситуацию, нашедшую отражение в эскимосской поговорке: «Подарки создают рабов, как кнуты собак» [1, с. 30].
Но хотя постоянное участие в операциях неэквивалентного обмена и позволяло лидерам поддерживать свое высокое положение, оно не давало им возможности закрепить его за собой и тем более передать его по наследству. Н.Н. Крадин отмечал в связи с этим, что «какой бы властью ни обладал правитель, его наследник, даже если получал престол в силу законных притязаний, чаще всего был вынужден все начинать сначала» [14, с. 26]. Однако закрепление высокого статуса становилось возможным, если лидеру древнего общества удавалось присвоить себе право исполнять на постоянной основе некоторые престижные функции. Это вошло в практику социальной жизни в рамках новой формы политической организации древнего общества – вождества. Главной из таких функций становился контроль над перераспределением материальных благ. Как писал Э. Сервис, в подобных условиях «функциональная дифференциация и редистрибуция перестают уже играть вспомогательную роль в жизни общества, а приобретают характер основной компоненты его функционирования. Вождества следует трактовать как иерархические общества с постоянным центром, координирующим процесс редистрибуции» [32, р. 134].
Занимая руководящие позиции в этом центре, вожди получали возможность извлекать из своего положения дополнительные выгоды, присваивая себе славу общественного благодетеля таким образом, будто перераспределяемые ресурсы принадлежат их распорядителю [34, р. 43]. Разумеется, в интересах вождей было создать систему правил, цементирующих социальные практики в группе [28, р. 3]. Для укрепления своего положения вожди не только использовали свое право исполнять престижные функции по контролю над процессами редистрибуции. В дополнение они умело эксплуатировали бытовавшие в обществе представления о символической ценности некоторых вещей и о власти, которую они приносят своему обладателю [25, р. 72-73]. В этих целях они аккумулировали у себя предметы, признаваемые обществом как престижные [27, р. 115-136], и всячески поддерживали свою репутацию их законных обладателей. Конечно, лучшего маркера законности власти и лучшего средства ее передачи по наследству, чем обладание богатством, придумать было сложно. Это придало богатству поистине мистическую силу, которой его могли наделить лишь боги. И оттого стремление к обладанию его мистической силой становилось главным и возвышенным порывом, направляющим действие воинов и правителей.
Подобное переформатирование ценностной шкалы нашло свое отражение в нарративных источниках. Например, в древнегерманском сказании о Беовульфе имеются такие строки [2, с. 185]:
Я знаю бедствия войны, они пришли в мир
С тех пор, как золото боги впервые
В палате Отца Богов месили и плавили
И трижды сжигали трижды рожденное,
Куда бы оно ни явилось в дом, его называют «добром».
Волшебное, оно приручает волков…
Вот борются братья и становятся убийцами, Родные замыслили погубить род.
Недра гремят, дух жадности летит:
Ни один муж не дает пощады другому…
Подобные установки жили не только на страницах древних текстов. Они отражались и в социальных практиках древних германцев. Показательными здесь являются описания Густава Фрейтага, которые в своей книге «Буржуа» приводит Вернер Зомбарт:
«Германцы, – цитирует он [11, с. 33-34], – были народом, не знавшим денег, в ту эпоху, когда они наступали на римскую границу… они предпочтительно любили не чеканный в монете металл, а золото в виде воинских украшений и почетных сосудов за трапезой. Как всякий юный народ, они любили выставлять напоказ свое добро… Драгоценные украшения составляли честь и гордость воина. Для государя же, содержавшего воина, обладание такими драгоценностями имело более важное значение. Долгом вождя было доброжелательное отношение к воинам, и лучшим доказательством такой доброжелательности являлась щедрая раздача драгоценных украшений и оружия. Кто обладал этой возможностью, тот был уверен, что его будут прославлять певцы и товарищи по пиршествам и что он найдет столько союзников, сколько ему будет нужно. Обладать большой сокровищницей значило поэтому обладать могуществом; заполнять постоянно возникавшие опустошения новой добычей было задачей мудрого князя. Он должен был хорошо хранить свою сокровищницу, потому что его враги гнались, прежде всего, за ней; сокровищница снова возвышала своего обладателя после всякого поражения, она всегда вербовала ему послушных вассалов, дававших ему клятву верности».
Заключение
Основываясь на методологии неоэволюционизма, допустимо выдвинуть предположение о том, что возникновение экономической мотивации стало следствием роста структурной и функциональной дифференциации в ранних доклассовых обществах. Опираясь на результаты археологических и антропологи- ческих исследований, а также тексты литературных памятников, можно выявить стадии ее формирования. Так, в недифференцированном обществе предпосылок для зарождения экономической мотивации не существовало. Однако по мере усложнения древнего общества значение материальных благ начинало возрастать.
Следует полагать, что правящая верхушка архаического общества в период разложения родового строя и формирования новой иерархической структуры вполне поняла значение богатства как средства завоевания и сохранения власти. Манипулирование им давало лидерам возможность подчинять окружающих, ставить их в зависимость от себя. В свою очередь, хозяйственная деятельность оказавшихся в зависимости клиентов и рабов еще более обогащала их патрона и господина. В этих условиях богатство становилось настолько значимым фактором власти, что приобрело самодовлеющее над нею значение. Возникло такое положение вещей, при котором уже не власть порождала богатство, а напротив, богатство становилось источником и мерой власти.
Представления элит о значимости богатства поверглись широкой диффузии в результате расширения географии и продолжительности войн, в которые были вовлечены уже не только профессиональные бойцы, но и рядовые общинники. В этих условиях у древних народов, особенно тех, которые были вовлечены в постоянные военные конфликты, богатство стало приобретать самостоятельную ценность, а установка на его получение постепенно превращалась в общественный императив.