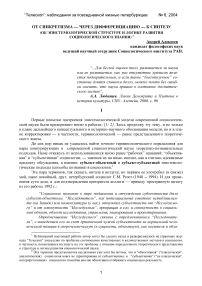От синкретизма - через дифференциацию - к синтезу (об эпистемологической структуре и логике развития социологического знания)
Автор: Алексеев Андрей
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Статья в выпуске: 6, 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142181592
IDR: 142181592
Текст статьи От синкретизма - через дифференциацию - к синтезу (об эпистемологической структуре и логике развития социологического знания)
Первые попытки построения эпистемологической модели современной социологической науки были предпринято мною в работах: [1; 2]. Здесь продолжу эту тему, и не только в плане дальнейшего концептуального и историко-научного обоснования модели, но и в плане корректировки — в частности, терминологической — ранее представленного теоретического эскиза.
До сих пор никак не удавалось найти точного терминологического определения для пары конкурирующих в современной социологической науке теоретико-познавательных подходов. Ныне откажусь от использовавшихся мною ранее “рабочих” названий: “объективная” и “субъективная” социологии, — заменив их на иные, вполне, как я считаю, адекватные предмету обсуждения, а именно: субъект-объектный и субъект-субъектный эпистемологические подходы (способы познания) в социологии. 2
Эта пара терминов, так сказать, витала в воздухе, но первым ее употребил (в связке) мой, ныне покойный, друг, петербургский социолог С.М. Розет (1940 -- 1994). И для прояснения сути дела, и для подтверждения приоритета коллеги — приведу пространную цитату из его работы 1992 г.:
“Социальное познание в мире подавления и отчуждения субъектности было субъект-объектным. “Исследователь”, как потенциальный советник истеблишмента (на Западе) или номенклатуры (у нас), отчуждал субъектность от “Исследуемого ” и от совокупности “Исследуемых ”, превращая и его, и совокупность в социальный объект, объект исследования, управления, планирования и проектирования.
Опредмечивание “Исследуемого” связано с опредмечиванием “Исследователя”, с выведением его за счет присвоенной чужой субъектности из нормальной человеческой позиции в сверхчеловеческую (в сущности, объектную), как носителя и обла- дателя “Объективной истины ” и “Научного метода ”, с установлением вертикальных отношений между этими двумя людьми. Но если для “Исследуемого” подвергнуться исследованию — это неприятный эпизод, приносящий незначительный ущерб, то для “Исследователя ”, профессионально вовлеченного в эту гносеологическую ситуацию и вынужденного идентифицировать себя с “Методом”, “Истиной”, сверхчеловеческой позицией, ущерб от объективации может быть значительным, вплоть до обеднения или атрофии личностного, ценностного, эмотивного начала.
В данной работе мне хотелось бы содействовать становлению субъект-субъектного познания. Субъект-субъектное познание может быть только равноправным диалогом “Исследуемого ” и “Исследователя ” по поводу темы исследования, без монополии на “объективную истину” у сторон. Ущерб, наносимый процессом исследования субъектности “Исследуемого” должен быть минимальным, должна сохраняться индивидуализация, включая имя. Соответственно, межсубъектные отношения "Исследуемых" между собой, проявляющиеся в интеракциях, от устойчивых конфликтов на подавление до взаимоподдержки вплоть до любви, должны составлять важнейшее содержание диалогов.
Субъект-субъектное познание, вовлекающее, а не отчуждающее “Я” “Исследователя”, может резко уменьшить ущерб личности социолога. Более того, обе стороны диалога могут быть обогащены исследованием, как развивающим фрагментом жизненной практики.
...В рамках субъект-субъектной методологии опросный лист представляет собой аспект сюжета жизненного пути респондента. Сам сюжет представляет собой индивидуальные способы разрешения конфликтов, и построения отношений сотрудничества. Сюжет неразрывно связан с именем респондента, но в некоторых отношениях может быть типологизирован по сюжетному сходству или вовлеченности в межиндивидуальный или надиндивидуальный (групповой) сюжет. Респондент превращается в собеседника “Исследователя”, по возможности заинтересованного в теме исследования и становится автором версии конфликта и соавтором исследования. Полем работы “Исследователя ” становится множество версий конфликтов или отношений и данные других “Исследователей”.
Эта работа отчасти аналогична деятельности гуманитариев-практиков: следователя, врача, литературоведа (структурализм), писателя, историка” [3, с. 553-555].
Интересно, как при этом формулирует мой коллега свое отношение к альтернативной социологической “парадигме”:
“...Несмотря на критический пафос приведенных обоснований, предполагаемый конфликтологический подход лишь очерчивает область субъект-субъектного познания, оставляя субъект-объектному познанию адекватную ему реальность” [3, с. 555].
Все это писано без особой теоретической амбиции, в применении к конкретному предмету исследования (социальные конфликты в новых российских условиях), но нетрудно заметить и фундаментальность выдвинутой гносеологической дилеммы. От эпистемологического выбора зависит разработка той или иной стратегии (методологии) социологического изыскания и все дальнейшие шаги исследователя. 3
Глубинные концептуальные корни заявленной тогда С.М. Розетом методологической позиции могут быть обнаружены не только в рамках социологической науки как таковой (о чем ниже), но и в мирожизненных, философских размышлениях А.А. Ухтомского о “доминанте на лицо другого” и о потенциальном (актуальном?) “тождестве субъект-объекта” [см. 4; 5] , и в философии А. Швейцера, трактовавшего “знание как переживание мира” и постулировавшего “внутреннюю связь” познающего субъекта с миром [см. 6] , и в теории познания М. Полани, где главный акцент делается на “личном участии” исследователя и его “самоотдаче” в ходе постижения реальности [см. 7], и в постановке П. Сорокиным, в конце жизни, вопроса о “действительной идентификации познающего и познаваемого” [см. 8] .
А теперь — обратимся собственно к предмету нашего обсуждения, обозначенному в названии настоящей работы.
II
Общую логику развития научного знания можно усмотреть в движении от синкретизма через дифференциацию к интеграции и синтезу. Эта логика универсальна, однако она специфизируется в каждой из ветвей “древа познания”, будь то естественно-научное, формально-абстрактное или социально-гуманитарное знание (и отношения между ними), будь то отдельные научные отрасли и дисциплины.
В частности, история социологии, конституировавшейся в качестве научной дисциплины и социального института немногим более 100 лет назад, эту логику подтверждает. Хоть историческое время для реализации указанной закономерности тут было и поменьше, чем для других, не столь “молодых” наук.
Другим общим для науки в целом, равно как и для отдельных ее отраслей, законом развития полагается, согласно Т. Куну, движение от допарадигмального (эклектичного) состояния к нормальной науке, в которой устанавливается господство определенной парадигмы (или “дисциплинарной матрицы”), как системы теоретических, методологических и аксиологических установок, принятых в качестве образца решаемых научных задач и разделяемых всеми членами научного сообщества. Далее, в недрах такой науки, под воздействием как внутри-, так и вненаучных (социокультурных) факторов, вызревает новая парадигма, с существенно большими познавательными возможностями, которая в конце концов, в итоге научной революции , становится общепризнанной [См. 9; 10] .
Эту логику развития, убедительно подтверждаемую историей естественных наук (например: “коперниканская революция”; смена ньютоновской картины мира эйнштейниан-ской) иногда слишком поспешно экстраполируют на науки социально-гуманитарного профиля, динамика которых вовсе не обязательно укладывается в антикумулятивную историконаучную модель.
Так, в истории развития социологической науки мы сегодня как будто наблюдаем (переживаем) период смены дисциплинарной матрицы. Вроде бы, существенно обветшали устои “классической” (структурно-функционалистской и позитивистской по преимуществу) социологии, при все большем выдвижении на передний план идеалов и норм социологии “не номическом, политическом и ином пространстве. Новая реальность, которая нас ожидает, это множество субъ-ект-субъектных горизонтальных конфликтов, разрешение которых не упорядочено ни традицией, ни законом, ни юридической или посреднической практикой. Исследование, типология и поиск способов воздействия на преимущественно горизонтальные конфликты могут быть полезны в этой новой реальности.
Более того, существует императив противостояния генерализации конфликтов (в возможной гражданской войне) — императив гражданского мира” [3, с. 553 ].
Поистине, не из теоретических спекуляций выросла поставленная в начале 90-х действующим российским социологом методологическая проблема.
классической” (“экстраординарная наука”, по Т. Куну). Эту последнюю иногда определяют как качественную (в отличие от количественной), как индивидо- или антропоцентричную (в отличие от социоцентричной), как микро-социологию (в отличие от макро-социологических подходов), как использующую “мягкие” или “гибкие” методы (в отличие от “жестких” и строгих), как интерпретативную (в отличие от аналитической или дискурсивной), как гуманитарную или гуманистическую (в отличие сциентистской?) — некоторые из наименований уже приобрели терминологический статус [11; 12; 13].
Решительное наступление этой новой парадигмы, началось в мировой социологии еще в 60-х гг. прошлого века, а в отечественной — с отставанием по фазе примерно на четверть века. Что сопровождалось поначалу (и на Западе, и у нас) крайне острой идейнонаучной полемикой между поборниками “нормальной” и “не нормальной” социологии (например, в России: [14; 15; 16] ). 4
Сейчас, научные страсти вроде поутихли. Пожалуй, можно сказать, что разные эпистемологические направления и стратегии социологического исследования, сосредотачивающие свое внимание либо на структурных социальных единицах (общностях, институтах), либо на сознании и деятельности “человека живущего” (оппозиция, сформулированная Т.М. Дридзе [20, с. 22] ), — относительно мирно сосуществуют. Но, они пока далеки от эффективного сотрудничества.
Автора этих строк, по всей совокупности его личных профессиональных усилий, вероятно, следует отнести к труженикам именно гуманистической, или “качественной” социологии [см., например: 21; 22; 23]. Однако, в качестве такового, я вовсе не считаю, что этой последней следует или суждено вытеснить или поглотить социоцентричную, аналитическую и т. п. социологию.
Здесь позволю себе усомниться в ставшей уже привычной трактовке “не стандартной” (включающей в себя феноменологические, акционистские, интуитивистские, конструктивистские и иные “субъектные” социологические подходы) и “стандартной” (“объектной”, по выражению В.В. Ильина [14, с. 16] ) социологий как разных научных парадигм. Ибо само по себе понятие парадигмы , по крайней мере у Т. Куна, связано с “научными революциями”, предполагающими своего рода парадигмальную инверсию; при этом новая парадигма обычно вбирает в себя старую как “частный случай” (для граничных условий).
В.А. Ядов (примирительная позиция в “парадигмальном” споре):
“...К сегодняшнему дню ситуация в мировой социологии изменилась. Методы жесткого количественного анализа вступили в содружество [гм! непохоже. — А.А.] с гибкими или качественными методами.
...Классическая социология... исходит из концепции общества как системно-организованной целостности. Жизнь индивидов — это проявление надындивидных и от них не зависящих обстоятельств. Индивид в классической социологии, включая марксистскую, это представитель социального типа. Переход к пониманию личностного смысла его собственной деятельности в языке социологических категорий и понятий практически невозможен. Для этого надо обращаться к понятиям психологии, культурологии или вообще отказаться от языка науки, использовать язык обыденных представлений о человеческом поведении....Еще раз спросим себя, какие же методы лучше, количественные или качественные, жесткие или гибкие? Ответ достаточно очевиден: надо знать, что, где и когда использовать. Мастер решает, в каком случае применить железный молот, а где деревянный молоток жестянщика, когда обратиться к массовым данным, а когда к анализу уникальных событий и явлений. Надо думать” [17, с. 243-244, 254] .
“...Правильный подход, следовательно, заключается в том, чтобы разумно использовать разные стратегии исследования и знать пределы разумных допущений...” [18, с. 30].
В общем, все хорошо “в меру”... Вопрос — чем и на каком уровне должна задаваться эта “мера”? Теперь послушаем голос “человека со стороны” (не ангажированного в социологическом сообществе).
С.В. Воронцов :
“...Удивительные вещи открываются, когда удается, наконец, замолчать... Тут возникает возможность выслушать другого. Это произошло, кажется, в социологии, с возникновением в ней так называемой “гуманитарной” или “качественной” ветви, имеющей дело с отдельным человеком, с его “историей жизни” (recits de vie). Достаточно было нескольких кратчайших эмпирических исследований, чтобы обнаружилось: многие мощные социологические теории и построения просто неадекватны на фоне рассказов обычного человека о самом себе.
Возникшая новая, качественная социология в методе историй жизни меняет и способ исследования:
важнейшим становится диалог. А в диалоге необходимо допущение, что придется узнать и неожиданное, наряду с ожидаемым.
Итак, после ста лет монолога социологии удалось, наконец, замолчать и услышать голос того, о ком она столько говорила. Раньше был (слышен) только ее голос. Однако этот услышанный ею новый голос не был бы услышан без ее собственных усилий, без ста лет прошлого говорения!
...Как награда объект социологического исследования может быть найден буквально под ногами.... Но эта награда невозможна без прошлых усилий социологии: голых, мертвых конструкций, не несущих удовлетворения и самому строителю” [19, с. 65-66].
Примечательно, что для С.В. Воронцова дилеммы “объективное-субъективное” (“жесткое-мягкое”) как бы не существует. Он преодолевает ее выходом в новое измерение : диалог, слушание, умолчание.
Почему неправомерно, в случае социологии, говорить о “научной революции”, или смене парадигм? Да хотя бы потому, что один способ познания включить в себя другой не может ! Ибо каждый из них ответствен за свой аспект, срез, круг явлений и процессов социальной реальности. 5
Думаю, речь здесь должна идти скорее о взаимодополнительности разных научных стратегий, “парадигмальных” (уж воспользуюсь этим термином!) подходов и школ, при их принципиальном равноправии. Но об этом — специально — ниже.
III
Теперь мы подошли к ключевому пункту нашего рассуждения — вопросу об эпистемологической структуре (структуре — динамической, исторически развивающейся!) социологической науки.
Недостаточность одномерного бинарного подхода, с его оппозициями (да — нет, или — или) для адекватного описания реальности ныне обнаруживается все явственнее. На смену бинарному мышлению приходит и все более утверждается имеющий не менее, кстати, глубокие историко-культурные корни тернарный подход.
Опираясь на идеи тринитарной методологии, разрабатываемой Р.Г. Баранцевым [см. 25; 26; 27], здесь предложим следующее представление о троичной эпистемологической структуре научного знания о человеке и обществе (= социологии):
социальная (философская
/
/
/ субъект-объектная
(аналитическая) социология ----
философия социология)
\
\
\ субъект-субъектная
(интерпретативная)
---- социология 6
Такая структура соотносима с фундаментальным семантическим архетипом, иначе говоря — формулой системной триады [см. 26; 27 ]. 7
интуицио (субстанция)
/ \
/ \ рацио----эмоцио
(анализ) (качество)
Предлагаемая эпистемологическая модель, как я считаю, удовлетворяет главному требованию к системной триаде, а именно: требованию целостности , при соблюдении принципа “неопределенности — дополнительности — совместности”.
Ибо системными (целостными) триадами, в отличие от линейных (вырожденных, одномерных), когда “все три элемента расположены на одной оси в семантическом пространстве”, и в отличие от переходных (гегелевских), “характеризуемых известной формулой “тезис — антитезис — синтез””, — полагаются такие структуры “единство которых создается тремя элементами одного уровня, каждый из которых может служить мерой совмещения двух других; все три потенциально равноправны” [27, с. 26].
В самом деле. Социология, как некая целостность, системное единство, не может быть сведена ни к рациональному (субъект-объектное познание), ни к эмотивному или чувственному (субъект-субъектное познание), ни к интуитивному (социальная философия) аспектам самим по себе. Уже в синкретизме “донаучных” начал (генезиса) знания о человеке и обществе можно различить все три “корня”, причем социальная философия получила, пожалуй, самое раннее развитие. Другие, менее абстрактные, аспекты знания о социальной реальности позднее тесно соприкасались или резонировали либо с естественнонаучным знанием, либо с искусством (как формой постижения “человеческой природы”). Так или иначе, ни один из трех названных аспектов не может претендовать на “исключительное положение” или безусловный приоритет перед другими.
Историческое развитие знания об обществе, происходившее, начиная с середины XIX века, под мощным влиянием естественных наук (физика, биология), выдвинуло именно субъект-объектную компоненту на первый план. А поскольку это тогда совпало с известным процессом дифференциации наук и становлением социологии как особой научной дисциплины (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм; в том же эпистемологическом ряду — и марксистская социология), названная компонента стала отождествляться со всем социологическим знанием, как его атрибут, а не один из модусов. 8
Примечательно, однако, что уже в трудах основателей научной социологии XX века (в частности, М. Вебера, еще ярче — у Г. Зиммеля) обнаруживаются предпосылки для позднейшей гуманистической критики структурно-функционального и позитивистского подходов, занявших главенствующее положение в мировой социологии к середине минувшего века. Поначалу не столь интенсивно развивалась альтернативная этим подходам интерпретативная социология, истоки которой принято возводить к “символическому интеракционизму” Дж. Мида, а можно поискать их и пораньше (в частности, в “понимающей социологии” Вебера).
Тем не менее, идеи этого альтернативного субъект-объектному социологическому познанию научного движения, ярко воплотились в трудах “чикагской школы” (У. Томас и Ф. Знанецкий, Р. Парк, Э. Берджес; 20-30-е гг.), а окончательно теоретически конституирова- лось это движение уже во второй половине минувшего века, в “феноменологической школе” (А. Шюц; П. Бергер и Т. Лукман.) [См., например, 28].
Методология “case study” (истоки которой лежат еще в XIX веке), методология изучения “историй жизни” (от начала века до наших дней), “франкфуртская школа” (Т. Адорно, Г. Маркузе и др.), “диалектический гиперэмпиризм” Ж. Гурвича, “этнометодология” Г. Гарфинкеля, “драматургическая социология” И. Гофмана, “фигуративная социология” Н. Элиаса, “социология действия” А. Турена, “социологическое воображение” Ч. Р. Миллса, “этика дискурса” Ю. Хабермаса, “археология знания” М. Фуко — все эти, столь разные социологические школы и направления социальной мысли так или иначе, прямо или косвенно, оказывались в оппозиции той “классической” субъект-объектной социологии XX века, к заглавным фигурам и мировым корифеям которой, после Э. Дюркгейма, относятся, например, Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Лазарсфельд, в известном смысле — Дж. Гэллап. 9
Как видно, доминировавшая на протяжении почти столетия стратегия (методология) социологического исследования, исходящая из эпистемологической предпосылки жесткого разделения (разграничения, оппозиции) познающего субъекта и познаваемой реальности, в интересах объективности (научной беспристрастности, неангажированности, ценностной нейтральности) познания (субъект-объектная социология), в известном смысле даже... “не старше” субъект-субъектной социологии (она же — “деятельностная”, “личностная”, а также интерпретативная или “понимающая”).
Здесь замечу, что термин понимающая социология, пожалуй, мог бы использоваться как синоним субъект-субъектной социологии (в предложенной выше эпистемологической модели). 10 Дело в том, что едва ли не все “не классические” подходы в социологии XX века так или иначе генетически восходят к веберовской “понимающей социологии” (которая, впрочем, в других своих аспектах, имела важнейшее значение для кристаллизации также и субъект-объектной эпистемологической “парадигмы”, впоследствии возобладавшей в социологии XX века).
Но вот последние десятилетия, как известно, ознаменованы настоящим бумом качественных (“мягких”, “гибких”) методов, пожалуй, претендующих сегодня стать ведущими в практике полевых, эмпирических социологических исследований. Что это — смена парадигмы, в смысле Т. Куна? Думаю, вовсе нет. Скорее — установление (восстановление?) баланса, преодоление известной “однобокости” предыдущих, сциентистских этапов генезиса и развития данной области научного знания (в “классическом” духе).
Обратимся к третьему элементу нашей триады социологического познания. По мысли Ю.Н. Давыдова, социальная философия — в узком смысле — может рассматриваться как “раздел общей социологии”, посвященный “осмыслению таких результатов (проблем, ан- тиномий) социологической теории, которые не могут быть “верифицированы” с помощью ее собственных познавательных инструментов” [32, с. 22-23].
Как тонко замечено В.В. Шамшуриным, “социология без социальной философии — безродна, а социальная философия без социологии — бесплодна” [33, с. 68-69]. Однако социальная философия (она же — по существу философская социология!), в отличие от двух заведомо социологических теоретико-познавательных “парадигм”, пока как бы не вмешивается в их спор и соперничество (занимаясь по преимуществу “сугубо своими” — мироотношенческими и смысложизненными вопросами, как правило, вне прямой связи с “общественным устройством” или “человеческими интеракциями”).
Между тем, как мне представляется, именно социальной философии (до сих пор “не опознанной” в качестве элемента системной триады социологического знания, как такового) скорее всего и предстоит выступить в качестве “арбитра” и “гаранта” адекватного соотнесения (разрешения конфликта, согласования усилий) субъект-субъектной и субъект-объектной “ветвей” социологии.
“В системной триаде каждая пара находится в соотношении дополнительности, а третий элемент задает меру со-единения”, — отмечает Р.Г. Баранцев [34, с. 64]. Это важнейшее положение тринитарной методологии заслуживает применения и к эпистемологической структуре социологического познания.
Вообще, “абсолютизация любой из компонент системной триады нарушает ее целостность, — пишет тот же автор . — Чрезмерная формализация заводит в тупик даже математику, безудержный разгул страстей становится для человека губительным, неограниченное возвышение духа чревато грехом гордыни. Вместе с тем, каждая ипостась способна являть целое. Так, в истине мы видим добро и красоту, в любви обретаем надежду и веру, в правде находим радость и пользу [здесь в качестве примеров привлечены некоторые классические триады мировой культуры. — А. А]. Включенность в Тринитарное со-знание позволяет по-новому видеть проблемы, освобождаясь от прокрустовой альтернативности” [34, с. 66].
Если попытаться взглянуть на современную ситуацию в социологии как бы со стороны (философически?), и с учетом известной историко-научной ретроспективы, можно, пожалуй, придти к следующему заключению:
— Неравномерная, поочередно интенсивная или опережающая (в пределах отдельно взятого исторического периода), своего рода — пульсирующая реализация (и распространение) исследовательских практик, опираюшихся на тот либо иной эпистемологический подход (что эмпирически может быть воспринято как “смена парадигмы”, а на самом деле — всего лишь наверстывание наметившегося “отставания” применений одной относительно другой), является и закономерным, и, вместе с тем, “счастливым” обстоятельством развития мировой социологии.
Ибо тем самым обеспечивается нелинейность научного развития, происходит самоорганизация социального знания, как динамической и открытой системы.