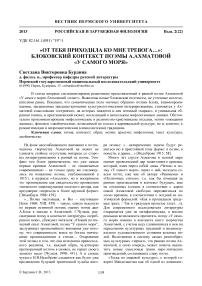«От тебя приходила ко мне тревога.»: блоковский контекст поэмы А.Ахматовой «У самого моря»
Автор: Бурдина Светлана Викторовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые систематизирован рецептивно представленный в ранней поэме Ахматовой «У самого моря» блоковский «пласт». Выявлены новые блоковские подтексты, не учтенные исследователями ранее. Показано, что семантические поля «вечных образов» поэзии Блока, взаимопроницаемые, насыщенные предшествующими культурологическими интерпретациями, становятся у Ахматовой смысловыми «остриями», на которых зиждется и сам поэмный «каркас», и уникальная образная топика, и архетипический сюжет, восходящий к нескольким мифологемным линиям. Обстоятельно прокомментированы мифологические и религиозно-христианские отсылки, мотив «ожидания жениха», феномен «двойничества», возводимый не только к карнавальной культуре, но и, конечно, к романтическим и неоромантическим (символистским) традициям.
Поэма, контекст, образ, мотив, архетип, мифологема, текст культуры, двойничество
Короткий адрес: https://sciup.org/14729200
IDR: 14729200 | УДК: 82.161.1(091)
Текст научной статьи «От тебя приходила ко мне тревога.»: блоковский контекст поэмы А.Ахматовой «У самого моря»
двойничество.
На фоне неослабевающего внимания к поэтическому творчеству Ахматовой не может не удивлять стойкое отсутствие интереса со стороны литературоведения к ранней ее поэме. Этот факт тем более примечателен, что уже самые первые критики Ахматовой – ее «знаменитые современники» – не только сразу же откликнулись на появление поэмы, опубликованной в 1915 г. в журнале «Аполлон», но и восприняли это произведение как свидетельство проявления эпического мироощущения молодого автора, как преддверие «перехода к более крупной форме» [Эйхенбаум 1986: 439].
«…Поэма настоящая, и Вы – настоящая» [Блок 1960: YIII, 459] – такую, самую высокую по меркам истинной поэзии, оценку поэме дает А.Блок в письме к Ахматовой. Г.Чулков, рассматривая поэму в контексте литературы «серебряного века», убеждает читателя: «Новый поэтический опыт Ахматовой, поэма “У самого моря”, заслуживает чрезвычайного внимания уже потому, что современность вовсе не богата эпическими произведениями в стихах… Очарование этой поэмы в том, что она исполнена превосходного реализма, т.е. каждый образ, чудотворно претворенный поэтом в символ, не теряет своего земного веса» [Чулков 1998: 441]. А в словах чуткого Н.В.Недоброво слышится как будто уже предвидение будущей трагической судьбы авто- ра поэмы: «…нелирические задачи будут решаться ею в пристойной тому форме: в поэме, в повести, в драме…» [Недоброво 1915: 58].
Много лет спустя Ахматова в полной мере оценит провидческий дар талантливого критика, который, имея перед собой лишь «Четки» и поэму «У самого моря», писал о ней, молодом совсем поэте, уже как об авторе «Реквиема» и «Полночных стихов», т.е. как бы помещая ее ранние произведения в контекст будущих, еще не созданных (совсем в соответствии с даром самой Ахматовой свободно передвигаться по «оси» времени, в соответствии с поздней ее поэтической формулой: «Как в прошедшем грядущее зреет, / Так в грядущем прошлое тлеет…»). Для современного исследователя литературы открывается уже не метафизическая, а вполне реальная возможность прочитать поэму «У самого моря» именно в контексте всего творчества Ахматовой, с учетом всех сложившихся в нем на пересечении культурных традиций и индивидуального художественного сознания кодовых полей. Включенная в систему самых разнообразных культурных «зеркал», эта ранняя поэма Ахматовой, в свою очередь, может помочь высветить новые смысловые грани лиро-эпических произведений, составивших славу поэта.
«Тоска по мировой культуре», о которой говорил Мандельштам как об одной из доминант- ных особенностей акмеизма, совпала не только с художественной конституцией Ахматовой. В первую очередь она, эта тоска, явилась важнейшим свойством восприятия и переживания жизни поэтом. Не эту ли особенность ахматовского мироощущения и ахматовского дара имел в виду Н.В.Недоброво, когда писал в статье пятнадцатого года о «биении о мировые границы» [Недоб-рово 1915:64]? Известно, насколько органичным было для Ахматовой чувство «кровной связанности с многочисленными уходящими вглубь пластами человеческой культуры» [Павловский 1991: 26].
Поэма «У самого моря» уже дает все основания говорить о «включенности» Ахматовой в культуру прошлого, о взаимодействии (сознательном или бессознательном) с ее высокими образцами, с контекстом прошлых эпох, а также о своеобразии преломления в художественном мире поэта культурных традиций1. Более того, вне «расшифровки» семантических «полей», возникающих в результате взаимодействия, взаимовлияния, наложения друг на друга «вечных образов» культуры и индивидуального поэтического сознания автора, невозможно в полной мере оценить специфику хронотопа поэмы, понять принципы организации художественного времени и пространства в произведении. Здесь же кроется и ключ к ахматовской концепции памяти, художественно состоявшейся, конечно, гораздо позднее.
В ранней поэме Ахматовой находим уже вполне сложившуюся целостную систему «вечных образов» культуры. В первую очередь это мифологические (в том числе библейские) «вечные образы»2, обращение к которым составляет одну из главных особенностей поэзии начала ХХ в. Пространство культурной памяти поэмы включает в себя и ставший архетипическим в поэзии Ахматовой образ Пушкина, и возведенные в ранг «вечных» образы Блока и Гумилева, и «вечные образы» поэзии (Муза, дудочка), и, наконец, представленные поэтом в качестве «вечных» образы-мотивы своей поэзии – творимый художником миф о себе (образ-мотив «невстре-чи»).
О том, что традиции в творчестве Ахматовой «неким конструктивным элементом входят в ее собственную лирическую систему» [Гинзбург 1974: 346], свидетельствует, в первую очередь, явная, открыто заявленная в поэме и даже вынесенная в название ориентация на высокий образец – Пушкина.
«…Утаив имя, присутствия в поэме отсутствующего Пушкина Ахматова не утаила» [Марченко 1998: 214], – констатирует А.Марченко. Действительно, уже само название поэмы указывает на один из главных ее источников – «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина, вписывая тем самым произведение Ахматовой в общий текст мировой литературы. Поэма написана стилизованным под фольклор белым стихом, что, конечно, также заставляет вспомнить Пушкина – его «Песни западных славян», которые Ахматова очень любила. «Ритмы этих песен повлияли на ритм “У самого моря”» [Лукницкий 1997: 342], – свидетельствует П.Лукницкий. Закрепленная в названии, пушкинская традиция оказывается у Ахматовой важнейшим элементом архитектоники, что проявляется уже в своеобразии строфической организации поэмы. На эту особенность преломления пушкинского текста в поэме Ахматовой указывал еще В.М.Жирмунский: «Ахматова воспользовалась русским народным стихом с женскими окончаниями, как он был освоен Пушкиным… К Пушкину восходит и повествовательная интонация стихотворной сказки, ее эпическая манера, элементы народной лексики и фразеологии, подхватывания и параллелизмы, характерные для народного устнопоэтического сказа» [Жирмунский 1973: 128].
Однако ритмико-интонационный, музыкальный строй поэмы позволяет выявить и еще один важный источник произведения, на который указывала, кстати, и сама Ахматова: «А не было ли, – пишет она, – в “Русской мысли” 1914 года стихов Блока. Что-то вроде:
О…парус вдали
Идет… от вечери
Нет в сердце крови ………..стеклярус ………..на шали.
С ней уходил я в море, С ней забывал я берег.
Но я услышала:
Бухты изрезали…
Все паруса убежали в море» [Ахматова 1996: 743]3.
Название поэмы, ее сказочный сюжет, колорит, ритмический рисунок, своеобразие строфической организации – все эти, казалось бы, внешние особенности произведения Ахматовой, восходящие к пушкинской традиции, утверждающие в качестве ведущего именно пушкинское начало, помогают и сам конфликт поэмы осмыслить, как и положено в лоне пушкинского мироощущения, обобщенно, философски – как извечное противостояние желаемого и действительного. Вслед за Пушкиным Ахматова показывает драматизм столкновения безмерных человеческих желаний и реального человеческого счастья. Не случайно, конечно, в речи героини Ахматовой, отвергающей предложение «сероглазого мальчика» стать его женой и уехать вместе с ним на север, слышим вдруг известные всем интонации пушкинской старухи:
И мне стало обидно: « Глупый! –
Я спросила: – Что ты – царевич?»4 (Здесь и ниже выделено мною. – С.Б. )
« Подумай, я буду царицей ,
На что мне такого мужа?»
(3, 9)
Я смеялась: « На что мне розы?
Только колются больно!»…
(3, 8)
Героиня и сама ощущает себя в положении этой неблагодарной сказочной старухи: «Ушел не простившись мальчик, / Унес мускатные розы, / И я его отпустила, / Не сказала: “Побудь со мною”» (3, 9). Кстати, именно «отсылка» к Пушкину – моделирование ситуации «Сказки о рыбаке и рыбке» – позволяет увидеть уже в этом отказе лирической героини знак драматической ситуации, предчувствие трагического финала поэмы.
Быстротечность жизни, ее хрупкость, непрочность, постоянное ожидание невозможного, чудесного и неспособность увидеть это чудесное в обычном, разглядеть счастье в том, что находится рядом и само дается тебе в руки Судьбой, – все эти интерпретированные Ахматовой в соответствии с пушкинской сказкой, по-пушкински, «вечные» темы жизни и судьбы человеческой вводят читателя одновременно и в атмосферу блоковской лирики, отсылая тем самым еще к важнейшему пратексту поэмы «У самого моря».
Р.Тименчик считает, что поэма Ахматовой была написана в течение десяти дней после известной встречи в поезде, воспринятой обоими поэтами как некий вещий знак [Топоров 1981: 139]. Упоминание об этой встрече находим и в «Записной книжке» А.Блока, и в записях Ахматовой: «Встреча в Подсолн<ечной>. 1914 г. – 9 июля (почт<овый> поезд)» [Ахматова 1996: 660– 661]; «Сегодня, через 51 г<од>, открываю “Записную книжку” Блока, которую мне подарил В.М.Ж<ирмунский>, и под 9 июля 1914 читаю: “Мы с мамой ездили осматривать санаторию на Подсолнечной. – Меня бес дразнит. – Анна Ахматова в почтовом поезде”» [Ахматова 1996: 670].
Алла Марченко убеждена, что созданию поэмы «У самого моря» непосредственно предшествует и еще одна случайная встреча с Блоком: «В августе 1914 года Ахматова и Гумилев обедали на Царскосельском вокзале. И вдруг так же неожиданно, как и месяц назад на платформе Подсолнечная, над их столиком навис Блок.… Снарядив мужа в поход, пока еще не на передовую, а в Новгород, где стояли уланы, Анна Андреевна вернулась в деревню и почти набело, на одном дыхании, написала первые сто пятьдесят строк “У самого моря”…» [Марченко 1998: 193].
Даже если не знать, что поэма была написана Ахматовой вскоре после известной теперь встречи с Блоком на платформе в Подсолнечной, не почувствовать четко и настойчиво проявленной в произведении ориентации на «знаменитого современника» невозможно. Личность и творчество поэта, вошедшего в художественный мир Ахматовой на правах «вечного» образа, обозначены в поэме не только, конечно, музыкальноритмическим строем. Можно говорить о более глубокой близости произведения лирике Блока, его мироощущению 5.
Так, своеобразие самой атмосферы ахматовской поэмы, ее «воздуха» невозможно не связать с чувством тревоги, которое поселяется в душе лирической героини в ожидании царевича (возможно, и как предчувствие трагического финала): «Но от тревоги я разлюбила / Все мои бухты и пещеры; / Я в камыше гадюк не пугала, / Крабов на ужин не приносила, / А уходила по южной балке / За виноградники в каменоломню…» (3, 10). Чувство тревоги героини настолько велико, что оно, казалось бы, захватывает весь окружающий мир, переносится на него, и теперь уже сама природа, чуткая и отзывчивая, заявляя о своей сопричастности, передает воцарившиеся в душе девушки тревогу, беспокойство, ожидание:
Дули с востока сухие ветры,
Падали с неба крупные звезды,
В нижней церкви служили молебны
О моряках, уходящих в море, И заплывали в бухту медузы, Словно звезды, упавшие за ночь, Глубоко под водой голубели.
Как журавли курлыкают в небе,
Как беспокойно трещат цикады,
Как о печали поет солдатка,
Все я запомнила чутким слухом…
(3, 11)
Эмоционально доминирующее в произведении чувство тревоги вводит его в блоковский космос. На источник, как всегда, указывает и сама Ахматова. На посланном Блоку весной 1914 г. (это год создания поэмы) новом своем сборнике стихов «Четки» Ахматова напишет: «От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать стихи» [Жирмунский 1973: 328]. Впрочем, происхождение в поэме этого чувства, ставшего знаковым для блоковского мироощущения, и не требует доказательств. Интересно в связи с этим заметить, что в приведенном выше описании состояния природы также есть прямая отсылка к Блоку – через ключевую (в семантическом контексте всей поэмы) реминисценцию из его стихотворения 1905 г. «Девушка пела в церковном хоре».
Чувством тревоги в поэме «У самого моря» сопровождается, как было сказано, ожидание царевича. Являясь основным мотивом поэмы, мотив ожидания не только определяет настроение и лирическую атмосферу произведения, но и становится сюжетообразующим. Включенный в ряд традиционных для литературы начала ХХ в. семантических полей, он прежде всего связывается с художественным образом мира поэзии Блока. Мотивы ожидания, встречи, преображения, настойчиво заявляя о себе в «Стихах о Прекрасной Даме», продолжают развиваться в цикле «Распутья». Именно они организуют сквозной сюжет и внутреннее движение циклов (мотив ожидания становится у Блока сюжетным стержнем и отдельных стихотворений в названных циклах). Ориентация на блоковское творчество проявляется у Ахматовой в том, что с мотивом ожидания связывается в поэме образ идеального будущего, будущего-мечты: «Боже, мы мудро царствовать будем, / Строить над морем большие церкви…» (3, 12). (Вспомним блоковское: «Будет день – и свершится великое, / Чую в будущем подвиг души» [Блок 1971: I, 117]). Мотив ожидания включен в поэме и в иную систему связей, в прямо противоположный по своей семантике образный ряд, также сформировавшийся в рамках блоковского текста.
Известно, что Блок (в целом высоко оценивший поэму «У самого моря») предостерегал Ахматову от увлечения «Мертвым Женихом», образ которого в поэме справедливо связывается не столько с образом Небесного Жениха, распространенным в духовных стихах и восходящим к глубокой традиции, сколько с символикой и мироощущением «трагического тенора эпохи»6.
Несомненно, Ахматова не могла не учитывать цикл блоковских стихов о мертвой невесте («Гроб невесты легкой тканью…», «Она веселой невестой была…» и особенно «У моря»), тема которого получила развитие в ее поэме. От Блока же идет и специфика контекста, в который помещается Ахматовой образ царевича. Вспомним, что в его стихотворениях 1908 г. и в цикле «Страшный мир» появление образа жениха часто сопровождается мотивом обманутых надежд, несбывшихся ожиданий, а иногда этот образ и впрямую вписывается в семантическое поле, связанное со словом «смерть»: «В ее ушах – нездешний, странный звон: / То кости лязгают о кости» («Пляски смерти») [Блок 1971: III, 24]; «Пусть скачет жених – не доскачет! / Чеченская пуля верна» («Демон») [там же, 17]; «Убралась она фатой от пыли, / И ждала Иного Жениха...» («За гробом») [там же, 81]. В поэме Ахматовой мотив ожидания, оборачиваясь мотивом ожидания Мертвого Жениха , также прочитывается как своеобразная метафора задуманной, но не случившейся встречи. Включаясь в характерную для блоковского творчества в целом оппозицию
«живое – мертвое», контраст между ожидавшимся и свершившимся обретает в поэме дополнительный символический смысл. Метафора задуманной, но не случившейся встречи, реализуясь в качестве главной смыслообразующей и в стихотворении Ахматовой 1915 г. «Милому» (финал которого, кстати, открыто отсылает к художественному образу мира Блока: «Чтоб не страшно было жениху / В голубом кружащемся снегу / Мертвую невесту поджидать » – 1, 223), войдет в творимый Ахматовой миф о себе образом «не-состоявшейся встречи», образ же «Мертвого Жениха» – образом Утраченного Возлюбленного, также ставшим «вечным образом» ахматовской поэзии.
Интересно заметить, что мотив «несостояв-шейся встречи» – это то, что роднит поэму Ахматовой и с поэмой-сказкой М.Цветаевой 1922 г. «Царь-Девица». Заимствуя сюжет поэмы из одноименной русской сказки (собрание Афанасьева, № 232, 233), Цветаева не случайно воспользовалась лишь первой ее частью, а вторую, со счастливым концом, где Царь-Девица после долгой разлуки соединяется с любимым, опустила. Сама она так поясняла главную мысль поэмы: «Прочтите “Царь-Девицу”... Где суть? Да в ней, да в нем, да в трагедии разминовений: ведь все любови – мимо…» [Цветаева 1994: III, 789]. Удивляет перекличка финалов двух поэм. В поэме-сказке Цветаевой Царевич по воле злой мачехи и старого колдуна проспал свои встречи с Царь-девицей. Героиня Ахматовой из-за внезапно охватившего ее сна проспала трагический момент катастрофы, которая принесла погибель ее Царевичу, и, может быть, именно потому не смогла как-то повлиять (ведь был же у нее особый дар!) на ход событий. И в том и в другом случае подчеркивается неестественный характер сна героев, мотивированный в одном случае колдовством, в другом – мистическими причинами («Как я легла у воды – не помню, / Как задремала тогда – не знаю, / Только очнулась и вижу…» – 3, 15). И в том и в другом случае после пробуждения в сознании героев стираются границы между сном и явью, героиня Ахматовой даже «…стала читать молитву, / Как меня маленькую учили, / Чтобы мне страшное не приснилось» (3, 15). Столь удивительная перекличка финалов в целом непохожих друг на друга произведений не является случайной. И Ахматова, и Цветаева одними из первых отчетливо почувствовали начало эпохи «трагических разминовений» и «несосто-явшихся встреч».
Мотивы «невстреч», предвестий, ожиданий, предвосхищающие «будущий гул» «Поэмы без героя», оказались знаковыми в контексте духовной атмосферы эпохи. Именно с ними связано своеобразие всей образной системы ранней по- эмы Ахматовой7. Блоковская символика отчетливо накладывается здесь не только на образ Царевича-Жениха, но и на образы кораблей, берега, смерти, птицы и др. Все они, включенные в устойчивое смысловое поле поэзии Блока, воспринимаются как образы-символы и в поэме Ахматовой.
Особый интерес с этой точки зрения представляет чрезвычайно значимый в контексте всего произведения образ кораблей, возникающий через реминисценцию из стихотворения Блока «Девушка пела в церковном хоре»:
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в родном краю,
О всех кораблях, ушедших в море , О всех, забывших радость свою.
[Блок 1971: II, 72]
В качестве прецедентного текст Блока вводится в поэму следующими строчками: «В нижней церкви служили молебны / О моряках, уходящих в море » (3, 11). Знаком прецедентной ситуации в поэме можно считать и восходящие к блоковским интонацию, размер, характер синтаксической конструкции, а также настойчивое употребление глаголов одного семантического ряда: «Все паруса убежали в море », «И уплывала далеко в море », «О моряках, уходящих в море ». (Все это подготавливает и появление в поэме образа-символа «уходящих» кораблей).
С образом корабля в мифопоэтической традиции обычно связываются два ряда ассоциаций. Достаточно традиционным в европейской поэзии является мотив корабля, уносящего душу от родных берегов в неизвестное вечное плавание. В то же время, как мы знаем, корабль – один из устойчивых символов спасения души в раннем христианстве; якорь корабля, как и мачта, словно сливается с Крестом, раскрывая значение этого важнейшего для христиан символического изображения. Корабль прибывающий ассоциируется с надеждой, спасением. Корабль уходящий может ассоциироваться с гибелью. Реминисценция из стихотворения Блока актуализирует в поэме именно контекст образа уходящего корабля, связываемого Блоком – в соответствии с традицией – со смертью, с душевной гибелью, обреченностью человека на страдание: «И только высоко, у царских врат, / Причастный тайнам, – плакал ребенок / О том, что никто не придет назад» [Блок 1971: II, 72]8. Осмысленный таким образом символ уходящего корабля возникает в поэме Ахматовой как предчувствие трагического финала произведения, как обозначение невозможности осуществления мечты, вводит в эту раннюю поэму трагическую тему ухода без возврата, тему обманутой надежды. «Смерть “царевича” уже предвещала несбыточность полудетских иллюзий, начало разминовений в мире ахматовской жизни и любовной поэзии» (3, 387), – пишет С.А.Коваленко.
В аналогичное смысловое поле попадает и образ берега, границы, многократно и в различных вариантах появляющийся в поэме: «Бухты изрезали низкий берег» (3, 7); «Тихо пошла я вдоль бухты к мысу, / К черным, разломанным, острым скалам…» (3, 14). Символизирующий в поэтической традиции переход от жизни к смерти, образ этот чаще всего интерпретируется в раннем творчестве Блока как своеобразный рубеж между двумя мирами («грань богопознанья», «я перешел граничную черту», «за дальней чертой» и т.д.), позднее же он становится перифрастическим обозначением смерти. Оба значения образа прочитываются в тексте Ахматовой.
На присутствие Блока в первой поэме Ахматовой указывает и еще один ощутимо проявленный в произведении сквозной мотив – двойниче-ства.
Тема двойничества, будучи одной из основных тем ахматовского поэтического мира, впервые столь явно обнаружила себя именно в поэме «У самого моря». Пространство поэмы буквально населено двойниками – зеркально отраженными образами. Лена, которая «с детства… ходить не умела, / Как восковая кукла лежала» (3, 13), явно противопоставлена в поэме своей «дерзкой, злой и веселой» (3, 7) сестре. Появление двойников в художественном произведении, как правило, свидетельствует о стремлении автора через столкновение двух начал выявить начало истинное, сущностное. Смиренная и религиозная («Ни на кого она не сердилась / И вышивала плащаницу» – 3, 13), Лена, возможно, воплощает вторую, истинную, сторону облика лирической героини, связанную с духовным, религиозным началом. Явно обозначена в поэме и еще одна пара двойников: сероглазый мальчик – царевич. Интересную трактовку символики этих образов предлагает А.Хейт, рассматривая их как выражение двух ликов образа Гумилева: «…царевич, ожидаемый с моря, – поэт, сероглазый мальчик – муж. Они, по всей видимости, воплощают два типа любви – любви духовной и любви земной» [Хейт 1991: 46]
Да и сама поэма, казалось бы, имеет своего «двойника», свой зеркально отраженный образ – это образ песни, которую придумывает лирическая героиня в ожидании жениха, песни, предназначенной для царевича и обладающей чудесными свойствами. Образы двойничества в поэме обнаруживаются и на уровне звуковом, также выражая идею раздвоения и одновременно выполняя функцию проводников между материальной и духовной реальностью:
И приносил к нам соленый ветер
Из Херсонеса звон пасхальный.
Каждый удар отдавался в сердце , С кровью по жилам растекался. (3, 13)
«Двойничество» у Блока можно интерпретировать в контексте всего его творчества как своеобразный ответ «страшному миру», миру, проникающему внутрь личности и разрушающему цельность лирического «я». Не только стихотворение «Двойник», но и весь цикл «Страшный мир» с его карнавалом двойников-масок призваны были передать через совмещение реальной и зеркальной действительности душевный кризис героя. Появление же двойников в произведении Ахматовой 1914 г., являясь своеобразной попыткой постичь загадку глубинного метафизического бытия личности, своей и чужой, в первую очередь выражало идею хрупкости бытия, непрочности, трагедийности жизни в атмосфере полудетстких иллюзий.
Таким образом, своеобразие поэмы «У самого моря» во многом оказалось обусловлено переосмыслением Ахматовой культурных традиций, их преломлением в художественном образе мира поэта, наложением, взаимодействием. Аккумулируя значения, взятые из разных культурных источников, образы поэмы необычайно увеличивали смысловую емкость. При этом неповторимое значение образа не только не терялось, наоборот: на пересечении и совмещении культурных и литературных контекстов он обретал смысловую глубину и эпический потенциал. Ориентация автора на Блока, использование символики, образности, мотивов его поэзии можно считать применительно к данному произведению важнейшим смыслообразующим фактором.
Отсылая к образам и мотивам Блока, Ахматова актуализировала, в свою очередь, и семантические поля его художественного мира, подключая их к тексту, заставляя работать в нем. Такова роль всех знаков блоковского присутствия в поэме Ахматовой: и реминисценции из стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», и цикла блоковских стихов о «мертвой невесте», и перекличек с образом царевича / царевны, и репродуцирования специфически блоковского мотива напряженно-тревожного ожидания «встречи», грядущего преображения, становящегося сквозным сюжетом его ранних стихов и оборачивающегося в поздней лирике мотивом не-встречи (или встречи с «мертвецом», с «мертвым женихом»), и, конечно, мотива двойничества. Немаловажным оказывается здесь и тот факт, что образы и сюжеты Блока – это еще один из путей, по которому входит в раннюю поэму Ахматовой христианская мифология. Преломление через индивидуальную символику Блока христианской образности, как было показано, создает основное своеобразие мотивов и образов ахматовской поэмы: предвестий, ожидания, Мертвого Жениха, корабля, берега, птицы и др9.
Все сказанное позволяет более внимательно отнестись к ранней поэме Ахматовой. Очевидно, что в ней можно увидеть своего рода «матричное» произведение, в котором уже присутствует все то, что позднее, в других лиро-эпических произведениях этого автора, будет реализовано уже на основе иного, отнюдь не сказочного, сюжета и в контексте иного – исторического, биографического – пространства. Небольшая по объему, эта поэма представляет уникально спрессованное пространство культурной памяти, целостную систему «вечных образов» культуры. И совершенно особое место в этой системе занимает контекст лирического мира Блока.
С ней уходил я в море
С ней покидал я берег,
С нею я был далеко,
С нею забыл о близких…
О, красный парус
В зеленой дали!
Черный стеклярус
На темной шали!
-
7 О трансформации некоторых образов и мотивов Серебряного века в ранней лирике Ахматовой см.: [Спивак 2010: 128–129].
-
8 В аналогичном контексте возникает образ кораблей и в стихотворениях Блока «Взморье» и «Поздней осенью из гавани…».
-
9 Значение и использование христианской символики в поэме не следует связывать только с подобным – опосредованным – влиянием. Уже это раннее произведение Ахматовой выявляет две сложившиеся в творчестве поэта особенности, связанные с преломлением «вечных образов» культуры, традиций прошлого. С одной стороны, основные мотивы и образы поэмы, без сомнения, включаются Ахматовой в устойчивое смысловое поле, сформировавшееся в рамках текста Блока или, шире, метатекста поэзии начала ХХ в. С другой же – все они восходят к мифопоэтической традиции и в поэме Ахматовой могут быть прочитаны как мифологические.
Список литературы «От тебя приходила ко мне тревога.»: блоковский контекст поэмы А.Ахматовой «У самого моря»
- Ахматова А.А. Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966). Москва -Турин: «Giulio EiunaudI editore», 1996. 873 с.
- Блок А. А. Соб. соч.: в 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960.
- Блок А.А. Собр. соч.: в 6.т. М.: Правда, 1971.
- Бурдина С.В. Архитектурный пейзаж Петербурга в зеркалах «Поэмы без героя»//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010а. Вып.2(8). С.136-140.
- Бурдина С.В. Мастер и Маргарита» и «Поэма без героя»: Парадоксы художественного времени и пространства//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010б. Вып.5(11). С.147-151.
- Гинзбург Л.Я. О лирике. Л.: Сов. писатель, 1974. 408 с.
- Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л.: Наука, 1973. 184 с.
- Кузмин М. Избранные произведения. Л.: Худож. лит., 1990. 574 с.
- Лукницкий П.Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т.2. 1926-1927. Париж; М., 1997. 541 с.
- Марченко А. «С ней уходил я в море…». Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования//Новый мир. 1998. №8. С.201-214.
- Недоброво Н.В. Анна Ахматова//Русская мысль. 1915. №7. С.50-68.
- Павловский А.И. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. М.: Просвещение, 1991. 192 с.
- Спивак Р.С. Антропология сильной личности в ранней лирике А.Ахматовой: Сборник «Вечер»//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып.2(8). С.126-135.
- Топоров В.Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: «блоковский» текст Ахматовой). Berkeley, 1981. 203 с.
- Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневники, воспоминания, письма А.Ахматовой. М.: Радуга, 1991. 383 с.
- Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т.3. 816 с.
- Чулков Г.И. Валтасарово царство. М.: Республика, 1998. 610 с.
- Эйхенбаум Б.М. Анна Ахматова. Опыт анализа//Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии: сб. статей. Л.: Худож. лит., 1986. С. 374-440.