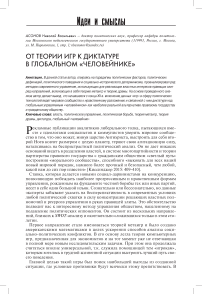От теории игр к диктатуре в глобальном «человейнике»
Бесплатный доступ
В данной статье автор, опираясь на парадигмы политических факторов, политических дефиниций, политического поведения и социально-исторического детерминизма, проанализировал ряд методов современного управления, использующих для реализации властных интересов правящих элит ряд направлений, включающих в себя теорию метаигр и теорию драмы. На основе проведенного анализа автор делает вывод, что начавшееся с конца ХХ в. включение данных «игр» в сферу политических технологий ведет мировое сообщество к нравственному разложению и связанной с ним диктатуре над глобальным управляемым «человейником» как наиболее реальной альтернативе правовому государству и гражданскому обществу.
Власть, политическое управление, политическая борьба, теория метаигр, теория драмы, диктатура, глобальный «человейник»
Короткий адрес: https://sciup.org/170199977
IDR: 170199977 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9738
Текст научной статьи От теории игр к диктатуре в глобальном «человейнике»
Р екламные публикации аналитиков либерального толка, пытающихся вместе с идеологами социалистов и коммунистов уверить мировое сообщество в том, что оно может, минуя царство Антихриста, выстроить для себя второй Ноев ковчег размером с целую планету, теряют свою агитационную силу, наталкиваясь на беспристрастный политический анализ. Он не дает никаких оснований видеть в разделении властей, в системе многопартийности и теории партнерства правового государства с гражданским обществом «светлый путь» построения «морального сообщества», способного «выковать для всех наций новый мировой порядок, намного более прочный и безопасный, чем любой, какой нам до сих пор известен» [Киссинджер 2015: 409-410].
Ставка, которая делается новыми социал-дарвинистами на конкуренцию, позволяющую побеждать наиболее прогрессивным и нравственным формам управления, рожденным на фундаменте честной борьбы тех или иных партий, несет в себе один большой изъян. Сознательно или бессознательно, но данные эксперты забывают указать на бесперспективность в современных условиях любой политической схватки в силу концентрации решающих властных полномочий и ресурсов управления в руках правящей элиты. Это обстоятельство подводит нас к интересному методу управления обществом, нацеленному на подавление политических оппонентов. Он состоит из нескольких направлений, близких к SWOT -анализу и окончательно сложившихся только в этом столетии.
Первое направление стало именоваться теорией метаигр и было создано американскими математиками в целях ускорения способов анализа социально-политических конфликтов. В его основу легла теория компьютерных игр, предназначенная для экономистов и на тот момент уже не отвечающая в полной мере новым исследовательским задачам. При этом она продолжала считаться вполне универсальной, т.к. служила помощницей тем «игрокам», которым хотелось в трудной жизненной ситуации выстроить лучший путь своего поведения.
Главной целью такой игры был поиск наибольшей выгоды из созданной ситуации, где условные противники будут всячески этому препятствовать. В свою очередь, игрок ради собственной выгоды тоже должен максимально вредить своим конкурентам, иногда соглашаясь на минимальный успех как положительную альтернативу поражению. Подобный тип действий стал основой принципа игрового рационализма как оптимальной модели поведения человека в реальной политической среде. Он требовал вовремя остановиться и не увлекаться игрой, способной привести к полному поражению и потере всех денег, всех «компаньонов» и своего первичного социального статуса.
Однако эта идея поиска «золотой середины» не срабатывала в других играх, где требовалось принять более жесткое «рациональное решение», встав на сторону того или иного участника игры, т.е. своего вероятного противника. Тем самым в игру вводился принцип сотрудничества, позволяющий отдать сильному противнику весомую часть выигрыша, а самому довольствоваться значительно меньшей долей при условии, если сильный противник ради победы над остальными игроками пожелает пойти на такой союз. Ведь, оставшись в одиночестве или выбрав слабого союзника, не способного на равных бороться с лидером, можно проиграть все.
Выработка данного стиля поведения в реальной политической игре, принятая командой аналитиков, нанятой оппозиционной партией, сводилась лишь к одной базовой рекомендации. Заказчику предписывалось выбрать из всего перечня зарегистрированных партий только одну – самую сильную. Она должна обладать решающим перевесом во власти и бизнесе. С ней следовало заключить негласный союз и получить от такого союза преференции в виде дополнительных депутатских мест на государственном и региональном уровне, министерские портфели или иные должности в «хлебных» точках страны. Принятие подобного решения вело ко второму этапу «игры».
Аналитическая группа дорабатывала механизм сближения двух фигурантов на уровне «челночной дипломатии», позволяющей решать все вопросы такого рода исключительно при их личной встрече «за закрытыми дверями» и «без галстуков». Понятно, что подобные сделки, предварительно во всех деталях проигранные на компьютере командой аналитиков, должны носить только скрытый (латентный) характер, не доводя результаты переговоров до какой-либо огласки. Ведь переход лидера оппозиционной партии и ее ведущих функционеров в состояние фиктивной, «управляемой» оппозиции означал предательство интересов тех, кто поверил им и отдал им свои голоса.
Такова практическая суть идеи рационального выбора, доработанной в новой версии теории метаигр. Она объясняет причину неизменных больших побед в нашей стране партии власти и отсутствие острых дебатов, что должны звучать в ходе предвыборной гонки, как это было, например, в период «думской монархии». Прессинг со стороны властных структур в то время был настолько слаб, что три левые политические организации сумели провести в Государственную думу 1-го созыва и посадить в депутатские кресла 294 кандидата, тогда как остальным досталось только 184 места. Результаты второго созыва были еще более ошеломляющими. Из 518 мест представители левой оппозиции получили 320 мандатов, оставив своим оппонентам только 198 кресел.
Учитывая специфику новых «игр», незнакомых политическим аналитикам прошлого, можно не сомневаться, что победа Б.Н. Ельцина во втором туре выборов 3 июля 1996 г., по официальным данным, получившего почти 54% голосов, стала прямым следствием таких «игр» в их ранней модификации. Ведь, согласно заявлению В.В. Путина, сделанному им 23 февраля 2021 г. на очередной пресс-конференции, представители особых ведомств США плотно опекали наше правительство. Победа Г.А. Зюганова в этом противоборстве их не устраивала, хотя в конце 1995 г. на выборах в Госдуму за КПРФ проголосовало больше всего граждан (15,4 млн чел.), а поддержка первого президента России упала до рекордно низкого уровня. Состоявшийся сговор решил исход дела.
Теперь, когда теория метаигр получила новые направления и вписалась в рамки политических технологий, ведущей из которых по-прежнему остается технология выборов, можно не сомневаться в предстоящей большой победе на очередных президентских выборах В.В. Путина или лица, выдвинутого им. Правда, тут следует учесть одно обстоятельство. Руководство России по величине ресурсов управления, находящихся в его распоряжении, относится к среднему уровню, а над ним есть еще макро- и мегауровни, чей потенциал как глобальных игроков в мировой политике намного выше путинского.
Если новая ситуация на Украине заставит лидера нашей страны принять стратегию «минимакса», придуманную авторами «метаигр» и рассчитанную на минимальный проигрыш в безвыходной ситуации, тогда мы станем свидетелями нового разворота России и перехода пальмы первенства в другие руки. В любом случае это не приведет к усилению наших национально-культурных традиций, ибо на сегодняшний день они не нужны нашим зарубежным оппонентам, имеющим возможность латентно продвигать свои интересы и не допускать перестройку социально-политической системы России в сторону ее цивилизационной самобытности. Ведь, если следовать теории метаигр, действия в этом направлении носят иррациональный характер, мешая реализации частных интересов, связанных с карьерными и материальными устремлениями личности.
Утверждению таких устремлений среди крупных игроков и тех, кто только входит в политику, желая пристроиться к перспективной партии или выгодному лицу, служит один из вариантов теории метаигр, получивший название «Петухи». Он строится на том, что рациональный «герой» обречен на поражение в борьбе с «иррациональным» противником потому, что становится просчитываемым. Просчитываемыми становятся и те риски, которые он способен создать своему противнику при столкновении. В итоге, побеждает тот, кто, изменяя логику традиционного поведения, идет вопреки своим предпочтениям, действуя иррационально. Скажем, когда он, нарушая моральные нормы, отрекается от своей партии, нации, веры и переходит на сторону более сильного участника властных отношений, получая за это компенсацию в виде денег, должностей, званий или сохраненной жизни.
Теперь остановимся на втором направлении. Его появление на свет также связано с экспертами США, которые придумали для него название drama theory (теория драмы). Вместе с теорией метаигр оно составило технологический блок анализа социально-политических конфликтов и поиска путей их преодоления, именуемый drama technology , или «драмтек». В 2005 г. был организован специальный форум. На нем приглашенные лица, применяя новую программу, могли в игровой форме поискать различные варианты выхода из проблемных ситуаций в области ключевых направлений социально-политической сферы. При этом играть разрешалось только в пределах тех моделей конфликтных ситуаций, что были созданы авторами игры, а также использовать заранее указанные термины, несущие в себе смысловые конструкции, вложенные в них их же создателями. Новый вариант, как и его последующие модификации, не допускал изменения правил, согласно которым разумными могут считаться только действия игрока, соответствующие предписаниям творцов драмтека.
Отдельно остановимся на информационном обеспечении. Доступные варианты теории метаигр и теории драмы ничего не говорят о характере информационного поля, которым могут располагать участники игр, степени его объективности и полноты, позволяющей расширить выбор действий. Получается так, что отбором информации и качеством ее достоверности руководят только организаторы игр. Руководят в свою пользу. Этим они ставят приглашенных ими лиц в зависимое положение, позволяющее до предела сузить весь спектр возможных игровых комбинаций и рассчитать последствия каждого хода.
Не случайно творческая рациональность допускалась только как особое направление, разрешенное организаторами игры и действующее в режиме «кооперация или конфликт». Оно позволяло игроку идти на опережение в условиях противоборства с противниками, не ожидающими от него подвоха. Это значило, что тот, кто первым нарушал правила, то нарушал их в свою пользу, т.е. создавал аналог игры «Петухи». Здесь перестройка ходов и ввод новых правил в живом соперничестве представителей власти и оппозиции должны форматироваться только хозяином положения. А оно должно прогнозироваться до масштабов избирательной кампании с таким прицелом, чтобы противник был обречен на поражение при любом повороте событий.
Тут желательный ход событий подразумевает дистанционный проигрыш того, кто решил ввязаться в политическую баталию, еще до начала «игры», предлагая ему сделать рациональный выбор и согласиться на переговоры с потенциальным победителем. Тем самым грядущие выборы должны походить на политический спектакль, где все роли распределены «режиссером», а от «артистов», именуемых в теории драмы «героями», требуется только одно – чтобы публика верила в искренность их чувств и поступков.
В целях придания большей достоверности «спектаклю», организаторы драмы разрешают «героям» отклоняться от сценария. Для этого предусмотрены разные варианты их поведения, именуемые «позицией героя», «угрозой», «запасной позицией» или «угрожающим будущим», заставляющим зрителя поверить в грозящую глобальную катастрофу (предсказания календаря майя на 2012 г., рост исламского терроризма, избыток населения). Далее все строится по законам театральной пьесы. Здесь есть своя завязка драмы, ее развитие, успешное решение сложной проблемы (ее оптимизация), кульминация сюжета, называемая «моментом истины», конфронтационная фаза и фаза исполнения, когда «герои» реализуют предварительно разработанные планы, помогая создать в сознании граждан иллюзию общего движения вперед. Причем подобная иллюзия может идти в озвучке не только носителей власти, но и оппозиционеров. В этом заключена скрытая суть технологии драмтека. Она придает вполне актуальный смысл крылатому выражению древнеримского писателя Петрония, утверждавшего, что « mundus universus exercet histrioniam » (весь мир занимается лицедейством).
Между тем, как уже было отмечено, данная технология должна стать всего лишь универсальным способом математического расчета возможных социально-политических действий с позиций либерального рационализма, поднимающего абстрактного индивида и его интересы над интересами общества и государства. Эта позиция закрепилась в нашей пятой Конституции, провозгласившей «человека, его права и свободы» «высшей ценностью»1, но не придавшей ценностный статус России и ее культурно-историческому наследию даже в 2020 г.
В науке чисел нет нравственных категорий. Понятие рыцарской чести ей и либерализму глубоко чуждо как пережиток «мрачного» Средневековья. Поэтому с точки зрения теории рационального выбора прав был генерал А.А. Власов, сдавшийся окружившим его немцам, а не генерал М.Г. Ефремов, оказавшийся в такой же ситуации. Власов сдался и возглавил армию предателей, идущих против своей Родины под трехцветным флагом, а Ефремов, сделав нерациональный выбор, погиб. Еще более нерациональным выглядит поступок генерала Д.М. Карбышева, не принявшего предложение Власова о сотрудничестве и заживо замороженного в концлагере. В глазах авторов «метаигр» и тех, кто ими у нас пользуется, ужасно глупым выглядит решение К.А. Тимирязева, В.А. Жуковского и И.П. Павлова. Из-за любви к родине они остались в разоренной гражданской войной России и отказались от переезда на сытый Запад, куда их звали. Выбор российской молодежи в этом вопросе зависит только от нашей политической элиты. Ведь только она замыкает на себя все ресурсы, методы и технологии управления ценностно-целевыми установками общества.
Поэтому, завершая разговор о теории игр, надо указать на ее главное зло. Оно связано с нарушением принципа свободной конкуренции как основного условия успешного движения отдельных стран и всего мирового сообщества к светлому будущему. Взамен создается имитация конкуренции, мешающая движению во властные структуры пассионариев, готовых ставить общественные интересы выше личных амбиций. Происходит ликвидация подлинного диалога политической элиты с обществом. Представительная власть приобретает характер «закрытого типа», оторванного от народа и представляющего в первую очередь корпоративные или личные интересы.
В таких условиях побеждает третья этическая система, перекладывающая всю вину за поражение только на самих проигравших. Общий смысл этой системы сводится к лозунгу: «Если играл и проиграл – обижайся на себя». Но она может исполнять роль только «временного стабилизатора ситуации. После этого надо ожидать новых перемен» [Крылов 2021: 69, 153], которые неизбежно приведут к превращению правящего класса в закрытый наследственный клан, живущий по принципу positions deja prises (занятого места). Этот клан будет обречен на духовно-нравственное вырождение и превратится в диктатуру, вставшую во главе глобального «человейника», рожденного из сверхгосударства как продукта «холодной войны». Тут будет выработана «особая “культура управления”, которая со временем обещает стать самой деспотичной властью в истории человечества» [Зиновьев 2007: 477].
Список литературы От теории игр к диктатуре в глобальном «человейнике»
- Зиновьев А.А. 2007. Запад. М.: Алгоритм. 512 с.
- Киссинджер Г. 2015. Мировой порядок. М.: АСТ. 512 с.
- Крылов К.А. 2021. Поведение. М.: Алькор Паблишерс. 194 с.