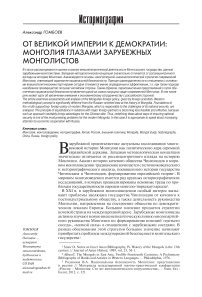От великой империи к демократии: Монголия глазами зарубежных монголистов
Автор: Гомбоев Александр Олегович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются оценки и анализ внешнеполитической деятельности Монгольского государства, данные зарубежными монголистами. Западная методологическая концепция значительно отличается от россиецентристского взгляда на историю Монголии. Анализируются основы «многоопорной» внешнеполитической стратегии современной Монголии, отвечающей задачам ее национальной безопасности. Принцип равноудаленности в отношениях с основными внешнеполитическими партнерами сегодня становится менее оправданным и эффективным, т.к. при таком подходе неизбежное преимущество получает китайская сторона. Таким образом, переосмысление представлений о путях обеспечения национальной безопасности является одной из самых насущных задач современной Монголии. В том числе речь может идти об увеличении внимания к экономическому сотрудничеству с российской стороной.
Монголия, монголоведение, историография, китай, Россия, внешняя политика
Короткий адрес: https://sciup.org/170167162
IDR: 170167162
Текст научной статьи От великой империи к демократии: Монголия глазами зарубежных монголистов
В зарубежной ориенталистике актуальны исследования многовековой истории Монголии как политического ядра огромной евразийской державы. Западная методологическая концепция значительно отличается от россиецентричного взгляда на историю Монголии. Анализ истории кочевого общества Чингизидов в мировом монголоведении традиционно начинается с источниковедческого и историографического анализа, посвященного истории государства Чингисхана и Чингизидов, формированию евразийской теории1. В мировом монголоведении имеется ряд крупных историографических исследований, в которых проанализированы основные труды по проблемам государственности народов монголо-тюркского ареала2.
В XXI в. в зарубежном монголоведении особый интерес вызывают проблемы эволюции государства Чингизидов от кочевого к постиндустриальному обществу, а также деятельность руководства Монголии, направленная на построение общества по демократическим лекалам Европы. Большое значение придается стратегии кочевой страны на международной арене. Зарубежные монголоведы активно изучают новую внешнеполитическую линию многопартийного руководства Монголии по формированию позиций «третьего соседа», «мягкой силы» в отношениях с зарубежными соседями. В рамках обоснования этой стратегии большое значение начинают приобретать проблемы международной безопасности монгольского государства3.
История Монголии последнего столетия продемонстрировала устойчивую зависимость ее национальной безопасности от внешних факторов, представленных политикой великих держав в этом регионе мира. Обретение Монголией независимо -сти от Цинского, а затем и республикан-ского Китая было бы невозможно без под -держки со стороны Российской империи и позже — СССР. Оборонная политика Монголии социалистического периода была полностью увязана с советско монгольским военно политическим сою зом, а выражение: «СССР — гарант безо -пасности МНР» не являлось лишь идеоло -гическим лозунгом.
Опыт XX в. повлиял на представления о национальной безопасности Монголии. На смену односторонней ориентации Улан-Батора на северного соседа при-шла политика, направленная на много сторонние отношения с различными государствами и международными орга низациями. Эта внешнеполитическая стратегия получила название многоопор ной (монг. — олон тулгуурт)1 и означала поддержание добрососедских отношений с географическими соседями — Россией и Китаем, а также выстраивание отноше ний с так называемым третьим коллектив ным соседом, представленным внерегио нальными акторами — США, Японией, Германией и др. В основу многоопорной внешней политики был положен прин цип равноудаленности (термин, не упо требляемый в официальных монгольских документах, но отражающий существо вопроса) от основных внешних партнеров страны. Равноудаленность рассчитана на то, что Москва, Пекин и третьи игроки будут уравновешивать друг друга в про цессе конкурентной борьбы за влияние на Монголию. Тем самым национальная бе -зопасность страны будет увязана с желае мым балансом внешних сил2.
На протяжении большей части ХХ в. борьба великих держав за влияние в Монголии шла с использованием воен ных методов. Выход Монголии из состава Цинской империи состоялся при прямой (в т.ч. военной) поддержке Российской империи. Дальнейшие события, имев -шие отношение к обретению Монголией независимости и национального сувере нитета, были также связаны с силовыми методами. Это и борьба против китайских оккупантов и войск барона Р. Унгерна, и бои против Японии на реке Халхин Гол, и конфронтация с КНР в 1960-х-1980-х гг. И только вывод советских войск из Монголии на рубеже 1980-х-1990-х гг. привел к ситуации, когда страна перестала рассматриваться в качестве арены воен ного противостояния великих держав.
В нулевых годах стало очевидным изме нение существовавшего ранее баланса сил. Принцип равноудаленности в отношениях с основными внешнеполитическими пар тнерами сегодня становится менее оправ данным и эффективным, ибо при таком подходе неизбежное преимущество полу чает китайская сторона3. Таким образом, переосмысление представлений о путях обеспечения национальной безопасности является одной из самых насущных задач для современной Монголии. В том числе речь может идти об увеличении внимания к экономическому сотрудничеству с рос сийской стороной. Россия уже в силу гео графического соседства объективно явля-ется самой заинтересованной стороной в деле удержания Монголии вне сферы монопольного китайского влияния.
Одним из основных инструментов «большой игры» стали факторы мягкого влияния ( soft power ). Начиная с Дж. Ная, эта исследовательская традиция получила широкое признание, несмотря на доста точно содержательную критику4. Данная теория была взята на вооружение и китай скими политологами Ванг Пейраном, Ли Мингджангом, Лю Цзайцином, Ян Сюэтуном.
Создание в 2001 г. Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), включившей в себя КНР и РФ, ока -зало влияние на и Монголию. Ключевое направление деятельности ШОС — борьба с сепаратизмом и терроризмом открывает для Монголии важную геополитическую альтернативу. Во многом это вопрос реги ональной идентичности страны, который для Монголии является ситуативным. Этот феномен хорошо охарактеризовали китай ские политологи, назвав Монголию «осто рожно балансирующим государством»1. В то же время проблема вступления МНР в ШОС имеет множество аспектов. Так, вступление Монголии в Шанхайскую организацию формирует образ новой Центральной Евразии, недружественной к западным ценностям и демократиям. Провал демократического эксперимента в Монголии серьезно затронул бы интересы стран-доноров и, возможно, привел бы к необратимому росту китайского влияния. С другой стороны, членство Монголии в ШОС поместит ее в ранг центральноазиатских государств, которые с меньшей долей вероятности могут быть реинкорпориро-ваны в состав возрожденной Российской империи. И США, и Япония не желают видеть, как Монголия дрейфует в направлении политической орбиты ее прежних хозяев.
Лидеры Монголии могут рассматривать ШОС как клуб, открывающий новую эпоху российско-китайского сближения и сотрудничества. Однако преимущественно буддистская Монголия имеет мало общего с исламским лагерем, православной Россией и атеистическим, условно коммунистическим Китаем. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что, вступив в ШОС, Монголия закроет себе дверь к политике «третьего соседа»2.
Среди проблем, которые анализируют зарубежные ученые, ключевыми являются:
-
1) выбор модели социальноэкономического развития, которая бы соответствовала прежней традиции сотрудничества Монголии с Россией, Китаем, третьими странами, отвечала стремлениям широких кругов общества к этому развитию. Без этой поддержки модернизация государственной модели общества невозможна;
-
2) интеграция Монголии в мировое сообщество и мирохозяйственную систему, плотное вхождение в мировой рынок, что может обеспечить переходной экономике и политике Монголии высокий уровень социально-экономического развития и благосостояния населения;
-
3) интеграция бывших постсоциалистических стран в рамках ШОС, а также
стран СНГ по типу Европейского сообщества. Разностороннее взаимодействие Монголии с этими странами может создать условия для использования различных экономических ресурсов и защиты их взаимных интересов на мировом рынке;
-
4) создание конкурентной среды, обеспечивающей развитие рыночного хозяйства Монголии;
-
5) формирование органов государственного управления, способных обеспечить социально-экономическое развитие кочевой страны в условиях непрерывно расширяющихся и углубляющихся рыночных отношений, и т.д.
Разрушение привычной, построенной по марксистским лекалам парадигмы истории Монголии, смена категориального аппарата в оценках прошлого произошли в рамках новейшего исторического времени почти мгновенно. На этом этапе развития научного монголоведения особый интерес приобретают идеи и концепции европейских ученых, ранее, в советский период, не афишируемые в востоковедной науке. С развитием процессов индивидуализации и специализации отраслей исторических знаний особую актуальность приобретают систематизация и классификация вклада отдельных исследователей и ученых, востоковедных и монголо-ведных школ в изучение исторического наследия российско-монгольских отношений. Поэтому представляется важным классифицировать основные оценочные историографические критерии, успехи и недостатки исторической монголовед-ной науки, определить основные задачи, поставленные в XXI в. перед российской историографической наукой в области монголоведения.
В мировом монголоведении назрело большое число вопросов по фундаментальным проблемам, среди которых необходимо выделить:
Мы полагаем, что борьбу монголов за освобождение от Цинского Китая в начале XX в. следует трактовать как национально-освободительное движе -ние. Методологическое положение о том, что это была буржуазная революция, не выдерживает критики. В условиях того времени в стране не были развиты буржуазные отношения, и дебаты о построении демократического общества были бы явным забеганием вперед. Е.А. Белов и С.Г. Лузянин подвергли обоснованной критике положения, выдвинутые монгольским ученым Б. Лхамсуреном о провозглашении независимости Монголии как о «национально-освободительной революции». Борьба монголов за отделение от Китая в 1911–1915 гг. была национально-освободительным движе -нием. Существование автономного монгольского государства в 1911–1919 гг. обусловлено не только международными обстоятельствами (русско-китайским противоборством, влиянием Синьхайской революции в Китае), но и, прежде всего, внутримонгольскими процессами – стремлением монголов возродить национальную государственность и добиться независимости в рамках панмонгольской идеологии2.
Рождение новой монгольской государственности – Монгольской Народной Республики – происходило под воздействием мощных социальных катаклизмов в России и Китае. Являясь отчасти продуктом политики Коминтерна и Гражданской войны в России, монгольская революция 1921 г. вобрала в себя многовеко-вый опыт борьбы за суверенитет, независимость и объединение монгольских племен. Революция 1921 г. фактически совместила два противоречивых момента: идеи движения 1911–1912 гг. (независимость, панмонголизм), органично перешедшие от прежнего теократического руководства к новому революционному правительству, и идеологическое влияние Советской России и Коминтерна, считавших Монголию удобным объектом для приложения революционной политики, а также выгодным стратегическим «буфером» на дальневосточных рубежах3.
Выделяя два основных уровня собственно монгольской политики – межгосударственный и этнорегиональный4, мы приходим к выводу о различных векторах политики Монголии. Если на первом уровне Монголия являлась в основном объектом политической и другой активности России и Китая, то на втором она была активным субъектом, проводившим в рамках той или иной идеологической доктрины собственную линию относительно Внутренней Монголии, Тувы, Бурятии, Тибета и других сопредельных этнорегионов.