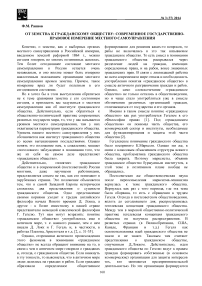От земства к гражданскому обществу: современное государственно-правовое измерение местного самоуправления
Автор: Раянов Ф.М.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Конференция
Статья в выпуске: 3 (37), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142232538
IDR: 142232538
Текст статьи От земства к гражданскому обществу: современное государственно-правовое измерение местного самоуправления
Конечно, о земстве, как о выборных органах местного самоуправления в Российской империи, введенном земской реформой 1864 г., можно сегодня говорить во многих позитивных аспектах. Тем более сегодняшнее состояние местного самоуправления в России остается очень незавидным, и оно вполне может быть измерено аналогичным положением организации местного самоуправления времен земства. Причем, такое измерение вряд ли будет полезным в его сегодняшнем состоянии.
Но я хотел бы в этом выступлении обратиться не к теме сравнения земства с его состоянием сегодня, а пригласить вас задуматься о местном самоуправлении как об институте гражданского общества. Действительно, если обратиться к общественно-политической практике современных развитых государств мира, то, что у нас называется уровнем местного самоуправления, там у них охватывается параметрами гражданского общества. Уровень нашего местного самоуправления у них обозначается как институт гражданского общества со всеми вытекающими последствиями. Однако понять это положение нам, к сожалению, мешает «поголовное» заблуждение в понимании того, что же из себя на самом деле представляет «гражданское общество».
Действительно, «понятие» гражданское общество и в современной (постсоветской) России многими, даже научными работниками, представляется совсем не так, как его понимают в зарубежных странах. Это положение объясняется тем, что в самой Западной Европе исторически сложилось два представления о сущности гражданского общества. Одно представление своими корнями уходит к трудам английского философа начала Нового времени Д. Локка, а другое - к более известному в нашей стране представителю немецкой классической философии Г. Гегелю. Тут нам могут возразить: понятие «гражданское общество» употреблялось еще в античном мире, т. е. намного раньше, чем о нем писали Д. Локк и Г. Гегель и, в частности, в работах Платона, Аристотеля и т.д. [2, с. 31-35].
Однако, сторонники античного происхождения этого феномена в понимании «гражданское общество» не всегда обращают внимание на то, в связи с чем в античном мире говорили о гражданах и, отсюда, о гражданском обществе. Если вникнуть в эту тонкость, то выясняется, что в античном мире люди делились на граждан и рабов. Если граждане образовали определенное общественное формирование для решения каких-то вопросов, то рабы не включались в это так называемое гражданское общество. То есть смысл в понимании гражданского общества раскрывался через разделение людей на граждан, имеющих определенные права, и на рабов, вовсе лишенных гражданских прав. В связи с ликвидацией рабства во всем современном мире отпала и необходимость употребления понятия «гражданское общество» в смысле античного разграничения граждан и рабов. Однако, само словосочетание «гражданское общество» не только осталось в обществоведении, но и чаще стало употребляться уже в смысле обозначения различных организаций граждан, отличающихся от государства и его органов.
Именно в таком смысле понятие «гражданское общество» как раз употребляется Гегелем в его «Философии права» [1]. Под «гражданским обществом» он понимал часть общества, его коммерческий сектор и институты, необходимые для функционирования и защиты этой части общества [2].
Гегелевское понимание гражданского общества было воспринято К.Марксом. Однако им же, в связи с классовым объяснением структуры всякого общества, проблематика гражданского общества была закрыта. Поэтому марксисты, объявив гражданское общество буржуазным институтом, к этой теме в позитивном плане вообще не обращались.
Постсоветская же обществоведческая наука после переосмысления марксизма-ленинизма вернулась к теме гражданского общества. Вернулась как раз с того периода, где эта тема была оборвана, то есть с обращения к трудам Гегеля. Отсюда в постсоветском обществоведении, вплоть до сегодняшнего дня, распространилась гегелевская концепция гражданского общества. Между тем в мировой общественно-политической практике гегелевская концепция гражданского общества не получила распространения. В развитых странах (в Великобритании, США, Канаде, Франции и т.д.) Гегеля как основоположника идей гражданского общества не знали и не знают. Таковым там считают представления о гражданском обществе, озвученным Д.Локком. Действительно, идеи гражданского общества по Гегелю ведут к правам граждан формировать собственные (в основном коммерческие) организации для защиты интересов тех, кто занимается предпринимательской деятельностью. Но эти организации формируются
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика и функционируют в рамках законов, исходящих от государства. По схеме Гегеля государство — это то, что находится на самой вершине общественного устройства. Все остальные общественные (гражданские) институты появляются и функционируют под контролем государства. Государство по Гегелю - это шествие самого Бога по Земле. Гражданское общество по иерархической лестнице у Гегеля идет после государства. Государство - первичная субстанция, а гражданское общество - вторичная и производный от государства институт.
В то же время по Д. Локку, который, еще в ХVII в. (раньше Гегеля), разбираясь в судьбоносных волнениях, произошедших в Англии в то время, пришел к выводу о том, что не государство, а именно гражданское общество является источником власти. У Локка в схеме общественного устройства первично не государство, а гражданское общество. У него само государство является институтом гражданского общества. Государство учреждается гражданским обществом и полностью им контролируется в своей деятельности. Пределы деятельности государственной власти ограничиваются общественным договором. Начиная с Конституции США 1787 г., вместо общественного договора, гражданским обществом принимается Конституция и им определяются пределы деятельности государства.
Свою концепцию Д. Локк обосновывает исторической логикой перехода людей от естественного (безгосударственного) состояния к гражданскому (государственному) состоянию. Формирующееся на основе общественного договора объединение людей, в целях учреждения государственной власти, по Локку, как раз и является гражданским обществом. Формируемое таким образом гражданское общество не может не быть правовым обществом, т.к. люди в гражданском состоянии, в отличие от естественного состояния, не могут обходиться без правовых регуляторов. Государственная власть, учрежденная гражданским обществом на основании общественного договора (позднее конституции общества), не может не быть правовым государством. Подлинное гражданское общество не может «породить» неправовое государство.
Поэтому гражданское общество, по Д. Локку, это то общество, которое учреждает правовое государство для выполнения тех функций, которые люди в естественном состоянии вынуждены были выполнять сами, то есть бороться с нарушителями естественных прав людей на жизнь, на свободу, на собственность. С момента учреждения государства

эти функции людей поручаются государственной власти. Гражданское общество оставляет за собой право контролировать деятельность государственной власти и привлекать к ответственности нарушителей общественного договора (конституции).
Развитая на сегодня мировая общественнополитическая практика исторически восприняла трактовку понятия «гражданское общество» именно в таком, локковском варианте.
Представления Д. Локка о гражданском обществе для отечественных исследователей до недавнего времени оказались просто недоступными, В нашей стране долгое время не было и потребности в них. Поэтому работы Д. Локка на русский язык впервые переведены лишь 1988 г. Гегелевские же работы переводились еще с 20-х гг. XX в.
Однако в мировом масштабе, начиная с XVIII в., были востребованы и реализованы, как уже отмечалось, именно представления Д, Локка, а не Гегеля. Так, в США на концепцию Д. Локка американские мыслители опирались, составляя Декларацию независимости США в 1776 г. Да и Конституция США 1787 г. была составлена в соответствии с учением Д. Локка. Современные обществоведы США, занимающиеся вопросами общественно-политического устройства, коренными вопросами жизнедеятельности общества (вопросы гражданского общества, государственного строительства и т.д.) все еще сверяют с учением Д. Локкa [3]. Но не только США последовали за учением Д. Локка о гражданском обществе, государственном строительстве. Многие другие страны, воспринимая именно представления Д. Локка о гражданском обществе, перестроили свои общественно - политические системы. К современному периоду таких стран в мире насчитывается более 40. Это самые развитые во всех отношениях страны. Достаточно сказать, что все страны, называемые конституционными парламентскими монархиями (их в мире насчитывается 11) по своим государственноправовым институтам соответствуют учению Д. Локка. То же самое можно сказать и о членах Евросоюза (27 стран), которые, в соответствии с учредительными договорами о Евросоюзе, должны соответствовать принципам правового государства.
Конечно, нам даже в современной России трудно понять, что гражданское общество - это то общество, которое учреждает государство, государственную власть. В России такого общества не было, и нет до сих пор, поэтому подлинное гражданское общество, в духе локковского варианта его толкования, для нас все еще остается незнакомым. Но если попытаться внимательнее

вникнуть в суть того, что в США сегодня избираются 18 тыс. категорий должностных лиц, начиная с главы (шерифа), сельской общины, завершая Президентом страны, то социальное назначение подлинного гражданского общества начинает несколько проясняться. Ведь основой гражданского общества, его кирпичиком является избиратель, выбирающий то или иное должностное лицо, выполняющее определенные управленческие функции от имени общества. Если ко всему этому еще добавить, что избирательное право (электоральное право) в США - это вовсе не то, что представляем мы у себя в России, что оно (электоральное право), в основном, формируется не государством, а самими избирателями, то смысл и сущность гражданского общества проясняется еще больше. Подлинное гражданское общество корреспондируется только с государством. Поэтому называть институтом гражданского общества всевозможные коммерческие организации и общественные объединения (типа общества рыболовов, любителей книг и т. д.) вряд ли стоит. Я бы даже Общественную палату Российской Федерации и аналогичные палаты в субъектах РФ в нынешнем состоянии, не стал бы называть институтом гражданского общества. Все эти общественные организации не занимаются формированием органов власти и контролем над их деятельностью. Они не объединяют избирателей и не работают с ними.
Местное самоуправление в РФ на сегодня также еще не относится к институту подлинного гражданского общества. В то же время местное самоуправление - это самая существенная часть во всей системе власти современного общества, обеспечивающая жизнедеятельность людей на самом низком (приближенном к нуждам людей) уровне. Отсюда следует, что честная и четкая выборность самой приближенной к населению местной власти должна быть организована безупречно. Только тогда восторжествуют в обществе подлинные демократические институты и справедливость. Люди именно с этого уровня организации власти должны себя чувствовать подлинным источником власти и вершителем своей судьбы. Они должны формировать местную власть в полном объеме и на абсолютно легитимной основе. Последнее обстоятельство благоприятно повлияет и на настроения людей. Заработает экономика в подлинно народных интересах.
Словом, перспектива развития местного самоуправления в России должна быть определена в качестве именно важнейшего института гражданского общества.
Список литературы От земства к гражданскому обществу: современное государственно-правовое измерение местного самоуправления
- Гегель Г. В. Ф. Философия права. - М.: Мысль, 1990. № 1.
- Гражданское общество; истоки и современность. СПб, 2000.
- EDN: ZFXSQR
- Нозик Р. Анархия, государство и утопия / пер. с англ. М., 2008.