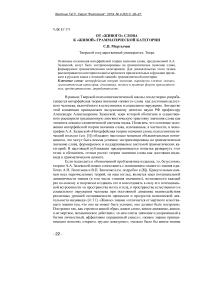От "живого" слова к "живой" грамматической категории
Автор: Мкртычян Светлана Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: К юбилею А.А. Залевской
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Основные положения интерфейсной теории значения слова, предложенной А.А. Залевской, могут быть экстраполированы на грамматическое значение слова, формируемое грамматическими категориями. Для доказательства этого тезиса рассматривается категория полноты/краткости прилагательных в функции предиката в русском языке с позиций «живой» грамматической категории.
Интерфейсная теория значения, парадигма "живое знание", грамматическая категория, семантика, полные и краткие формы прилагательных, предикативность, атрибутивность
Короткий адрес: https://sciup.org/146281530
IDR: 146281530 | УДК: 81’371
Текст научной статьи От "живого" слова к "живой" грамматической категории
В рамках Тверской психолингвистической школы плодотворно разрабатывается интерфейсная теория значения «живого» слова как достояния целостного человека, включённого в естественное и социальное окружение. Авторство этой концепции принадлежит заслуженному деятелю науки РФ профессору Александре Александровне Залевской, идеи которой обогатили и существенного расширили традиционную лингвистическую трактовку значения слова как элемента лексико-семантической системы языка. Полагаем, что основные положения интерфейсной теории значения слова, изложенные, в частности, в монографии А.А. Залевской «Интерфейсная теория значения слова: психолингвистический подход» (см. [5]) обладают настолько мощным объяснительным потенциалом, что могут быть весьма успешно экстраполированы на грамматическое значение слова, формируемое и поддерживаемое системой грамматических категорий. В настоящей публикации предпринимается попытка развернуть этот тезис и обозначить «точки роста» теории значения слова как достояния индивида в грамматическом аспекте.
Если подходить к обозначенной проблематике издалека, то, безусловно, теорию А.А. Залевской можно сопоставить с пониманием «живого» знания в работах А.Н. Леонтьева и В.П. Зинченко (см. подробно в [8]). Краеугольным камнем всех перечисленных теорий, на наш взгляд, является идея потенциальной динамичности знания (в том числе «знания значения»), возможности каждый раз по-новому и творчески создавать его и воссоздавать в силу его потенциальной встроенности «в пространства мозга и тела, в пространства естественного и социального окружения человека при постоянной динамике взаимодействия различных уровней осознаваемости процессов и продуктов психической деятельности индивида» [4: 31]. «Живое» знание «отличается от мертвого или ставшего знания тем, что оно не может быть усвоено, оно должно быть построено. Построено так, как строится живой образ, живое слово, живое движение, живое, а не мертвое, механическое действие»; «в нем слиты значение и укорененный в бытии личностный, аффективно окрашенный смысл»; «живое знание принципиально неполно, открыто, трудно доказуемо»; «можно было бы живое знание характеризовать и как “опытное знание”, придав слову “опыт” его давний возвышенный, а не нынешний обыденный смысл, неотличимый от затасканного слова “практика”» [6: 22,23,40]. «Живое» слово «у индивида не хранится в “готовой” словесной формулировке - оно должно быть найдено, построено, идентифицировано, т.е. пережито как понятное посредством процесса (точнее - ряда процессов) поиска опор в предшествуемом опыте познавательной и коммуникативной деятельности» [4: 31].
А.А. Залевская обратила внимание на один существенный факт, который послужил отправным пунктом для наших дальнейших размышлений: «при лингвистическом описании значения слова последнее не может не быть относительно стабильным и чётко сформулированным, поскольку должно фиксироваться социально принятое в некоторый текущий период времени средство взаимопонимания при общении. Это, объективно необходимое, качество словарных описаний значения нередко “по умолчанию” принимается как адекватно отображающее ситуацию функционирования слова у индивида, что в принципе противоречит динамичности, расплывчатости представлений индивида о значении некоторого слова, а нередко и неспособности человека вербально описать значение слова, которое ему вполне понятно, в том числе за счёт учитываемых на разных уровнях осознаваемости перцептивных образов или отдельных признаков тех или иных объектов, действий, состояний, эмоционально-оценочных переживаний, возможных или воображаемых ситуаций, следствий из них и др.» [4: 31-32]. Процитированное выше, на наш взгляд, равно справедливо по отношению к грамматическому значению, описание которого в традиционной грамматике не может быть в полной мере перенесено на индивидуальную «речевую организацию» (термин Л.В. Щербы) и не может быть приравнено к тому, что функционирует у пользующегося языком человека (ср. у А.А. Залевской [4: 31]).
Для примера возьмём грамматическую категорию полноты/краткости прилагательных в предикативной функции в русском языке. Беглый обзор научной и учебной литературы по вопросу разграничения полной и краткой форм, который представлен в [9], позволяет заключить, что поиск единого инвариантного критерия разграничения рассматриваемых форм до сих пор не увенчался успехом. А.Н. Гвоздев высказался по этому поводу весьма проницательно: «В основном полные формы обозначают не ограниченное теми или иными условиями, постоянное, вневременное качество, краткие - с теми или иными ограничениями - временное качество или состояние. Но это обнаруживается отчётливо лишь иногда <...> В некоторых с л у ч а я х различия по значению между полными и краткими формами оказываются малозаметными и неуловимыми (разрядка моя -С.М.)» [2: 229]. В. А. Плунгян справедливо замечает: «Сложность ситуации в современном русском языке связана с тем, что в предикативной позиции в большинстве случаев свободно употребляются и полные формы, но возникающее при этом то нко е с ем античе с ко е противопоставление пока с трудом поддаётся описанию (разрядка моя - С.М.)» [10: 233]. В академической грамматике в качестве основного принят временной критерий. Это означает, что краткие формы передают временный признак, а полные - постоянный: «Краткие формы присущи лишь тем качественным прилагательным, которые допускают видоизменение качества и превращение его в качественное состояние, протекающее во времени и приписываемое лицу или предмету. Качества, являющиеся неподвижными, постоянными, вневременными свойствами предметов, не могут выражаться краткой формой имени прилагательного. Грубо говоря, в кругу имён прилагательных лишь временные эпитеты, лишь обозначения временных свойств имеют полную и краткую форму» [1: 54]. С опорой на временной критерий можно объяснить ряд случаев (например, болен и больной), но он оказывается совершенно неприменимым ко многим другим случаям, столь же обычным в практике употребления языка (студент умный/студент умён), поскольку отражает один из возможных подходов к анализу и описанию языковых явлений. Грамматическое значение, как и значение слова, «не может не быть относительно стабильным и чётко сформулированным, поскольку должно фиксироваться социально принятое в некоторый текущий период времени средство взаимопонимания при общении» [4: 31]. Однако это объективно необходимое условие, на котором акцентируется внимание в грамматических справочниках и словарях, нередко «по умолчанию» принимается как адекватно отображающее ситуацию функционирования слова/словоформы у индивида, что в принципе противоречит динамичности, расплывчатости представлений индивида о лексическом и грамматическом значении некоторого слова.
Эта трудность заставила многих исследователей перевести проблему в план формальных синтаксических отношений, которые носят не объяснительный, но статистический характер. Например, в исследовании Л.М. Гончаровой внимание сосредоточено на тенденции расширения функций и употребления полных форм имен прилагательных: «Там, где ранее могли употребляться только краткие формы или употребление полных форм было редкостью, сейчас встречаются полные формы, и они все чаще «отвоевывают» эти позиции у кратких форм, как бы занимают их место. Причем тут различия между полными и краткими формами нивелируются и на первый план выступает именно то, что ранее в данной позиции встречались лишь краткие формы прилагательных, тогда как в современном русском языке все чаще стали встречаться полные. <…> Конструкции с полными прилагательными, которые ранее отмечались исследователями как редкие или имеющие разговорный оттенок, все чаще употребляются в современном литературном языке» [3: 56]. Такие исследования, безусловно, интересны. Но они относятся к иной проблематике.
По-видимому, выбор той или иной формы в практике реального использования языка регулируется целым набором факторов и условий (коммуникативных, образных, стилевых, прагматических и т.д.). Здесь трудно говорить о системе строго заданных статичных правил. Каждый факт языкового использования окутан сетью смысловых векторов, которые обусловлены его различными компонентами. Все они создают некую смысловую перспективу, определяющую категориальный модус каждого конкретного высказывания, который даже носителями языка зачастую интерпретируется с трудом. Ср.: А.А. Залевская указывает на зачастую проявляющуюся неспособность «вербально описать значение слова, которое человеку вполне понятно, в том числе за счёт учитываемых на разных уровнях осознаваемости перцептивных образов или отдельных признаков тех или иных объектов, действий, состояний, эмоционально-оценочных переживаний, возможных или воображаемых ситуаций, следствий из них и др.» [4: 31–32].
Ошибочно полагать, что предлагаемый динамический (или, воспользуемся метафорой А.А. Залевской, «живой») подход означает отказ от понимания грамматической категории как целого, растворяя ее в бесконечных частных случаях. В этом случае принципиально иным оказывается характер обобщения и интеграции, сам общий принцип, согласно которому говорящие осуществляют выбор и осмысление той или иной грамматической формы.
Полная форма изначально атрибутивна, она сохраняет этот оттенок атрибутивности даже в функции предиката в контуре высказывания. Эта память о типичных атрибутивных употреблениях влияет на смысл, полная форма как бы дополняет смысл предикативной позиции, привнося в нее отпечаток своих употреблений в качестве атрибута, который непосредственно относится к существительному. В выражениях Глаза выразительные, Жизнь прекрасная речь идёт не о двух раздельных компонентах смысла, сам предмет как бы растворён в признаке, признак является его неотъемлемой частью, это данность, которая не предполагает расчленения и анализа. Говорящий оказывается п а с с и в -н ым наблюдателем, который констатирует, что таково положение вещей.
Сам эффект предицирования заключается в том, что мы объективно приписываем признак предмету. В выражениях Глаза выразительны, Жизнь прекрасна одному компоненту смысла приписывается другой компонент, эти компоненты разделены. Мы получаем представление о том, что глаза могут быть выразительны, а жизнь прекрасна благодаря говорящему. Говорящий именно так интерпретирует действительность. Не констатирует данность, а по-своему интерпретирует наблюдаемое. Это позиция а к т и в н о г о наблюдателя, который готов обосновать почему, в силу каких причин субъект наделяется признаком, передаваемым краткой формой.
Если обратиться к высказываниям, которые весьма противоречиво трактуются в рамках традиционной временн о й концепции, типа Каждый раз он спокоен во время бури, Он неизлечимо болен, то постоянный признак передаётся вопреки этой теории краткой формой. Модус этих высказываний сосредоточен на активном приписывании объекту признака. Здесь постоянность/временность признака вряд ли будет релевантной объяснительной характеристикой, повлиявшей на выбор краткой формы. Возможны и другие варианты: Он всегда спокойный во время бури, Он совсем больной – здесь говорящий не сообщает новое об объекте, а приобщает адресата к тому впечатлению, которое ощущается ими обоими (адресатом и адресантом).
Полагаем, что краткая форма создаёт модус суждения о предмете, которому приписывается признак, а полная форма – модус представления о предмете, который обладает признаком как данностью. В частности, по этой причине, чем больше ограничений и уточнений накладывается на признак, тем более вероятна краткая форма: Он болен уже давно ; Он спокоен даже во время бури . С другой стороны, добавление экспликаторов приблизительности определяет тяготение к полной форме: Он как будто живой; Гриб-боровик красивый, точно нарисованный.
В высказываниях с темпоральными экспликаторами возможны обе формы. Такие случаи анализируются А.А. Котовым, который приходит к выводу, что смысловое противопоставление форм может нивелироваться [7: 240]. На наш взгляд, полная и краткая формы вносят различные смысловые оттенки: Вчера весь вечер он был весел. Вчера весь вечер он был весёлый. В высказывании с краткой формой указано на отрезок времени, в течение которого признак наличествовал у объекта, в высказывании с полной формой указывается скорее не на продолжительность действия признака, а на то время, в течение которого говорящий наблюдал этот признак у объекта.
Смысловое различие между полной формой и краткой осложняется стилистическими различиями. Принято считать, что полная форма тяготеет к нейтральному и разговорному стилю, а краткая – к формальному и книжному. Однако обе формы обладают широким стилистическим диапазоном и не могут быть чётко противопоставлены стилистически. В большинстве случаев один и тот же признак передаётся с помощью конкурирующих форм, но сам признак при этом остаётся не совсем одним и тем же. Краткая форма маркирует аналитическую абстрактность. При этом стилистически высказывание тяготеет к возвышенности, торжественности, поэтической приподнятости, оно апеллирует к более широкому и абстрактному адресату. Видимо, по этой причине в панхронических высказываниях с обобщённой семантикой (пословицах, поговорках, философских сентенциях, научных умозаключениях) используется именно краткая форма: Мал золотник, да дорог; Стороны равны.
Чем с большей вероятностью объект становится предметом рассуждения, тем уместнее краткая форма. Выражения Треугольники равны, Студент ленив, Текст труден являются продуктом размышлений говорящего. Ср.: Эти треугольники равные , Этот студент ленивый, Этот текст трудный.
Полная форма стремится к физически осязаемой конкретности: Голос у него был тихий, глаза умные . Если полную форму трансформируем в краткую, то получим резко транспарантный оттенок: Голос у него был тих, глаза умны . Здесь стилистическая сублимация достигает такой резкости, что конкретность самого признака уходит на второй план. Смысловой и стилистический векторы как бы уравновешены: чем отчётливее смысловое противопоставление, тем меньшее стилистических возможностей, и наоборот, чем более размыто смысловое противопоставление, тем контрастнее стилистические эффекты: Глаза злые и колючие – Глаза злы и колючи .
Грамматическая категория полноты/краткости форм прилагательных принципиально не сводима к определённым значениям, способным объяснить всё разнообразие в употреблении этих форм. Ср. с особенностью значения слова, о которой пишет А.А. Залевская [4: 34]. Полная и краткая формы прилагательных передают не грамматические значения, а р а з л и ч н ы е с м ы с л о в ы е м о д у с ы : погружённость говорящего в поток опыта, который он осмысливает, п а с с и в н о наблюдает; и активность по отношению к миру, который говорящий познаёт, наделяя смыслами с позиции своей перспективы а к т и в н о г о н а б л ю д а т е л я . Дело в том, что одна позиция перетекает в другую, наше сознание постоянно балансирует между двумя этими позициями. Именно эти процессы и находят отражение в языке через посредство использования различных форм прилагательных, формируя «живую» динамическую грамматическую категорию.
Полагаем, что интерфейсная теория значения слова А.А. Залевской, выходящая за рамки традиционной лингвистики, знаменует собою переход на новую парадигму исследований – парадигму «живого» знания, в рамках которой принципиально иным должен быть подход к анализу всех языковых явлений, в том числе и явлений грамматического порядка.
Список литературы От "живого" слова к "живой" грамматической категории
- Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / под ред. Г.А. Золотовой. 4-е изд. М.: Рус. яз., 2001. 720 с. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Ч. 1. Фонетика и морфология. 2-е изд. М., 1962. 431 с.
- Гончарова Л.М. О некоторых тенденциях в употреблении полных и кратких форм прилагательных в современном русском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. № 1 (8). C. 52?56.
- Залевская А.А. Значение слова в пространстве мозга, тела и окружения человека // Слово и текст: психолингвистический подход: сб. науч. тр. / под ред. А.А. Залевской. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. Вып. 14. С. 31-35.
- Залевская А.А. Интерфейсная теория значения слова: психолингвистический подход. London: Published by IASHE. 2014. 180 с.
- Зинченко В.П. Психологическая педагогика: материалы к курсу лекций. Часть I. Живое Знание. Самара. 1998. 216 с.
- Котов А.А. Семантическое противопоставление полных и кратких предикативных прилагательных в русском языке // Ученые записки Орловского государственного университета. №5 (61), 2014. С. 235?242.
- Мкртычян С.В. От "живого" слова к "живому" знанию // Слово и текст: психолингвистический подход: сб. науч. тр. / под ред. А.А. Залевской. - Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. Вып. 14. С. 55-59.
- Мкртычян С.В. Семантика полных и кратких форм прилагательных в предикативной функции (с привлечением материала экспериментов) // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2018. № 2. С. 111-117.
- Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. 672 с.