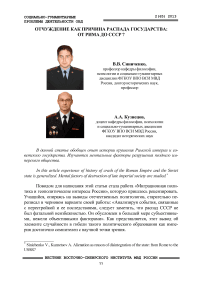Отчуждение как причина распада государства: от Рима до СССР ?
Автор: Синиченко В.В., Кузнецов А.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД
Статья в выпуске: 2 (65), 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье обобщен опыт истории крушения Римской империи и советского государства. Изучаются ментальные факторы разрушения позднего имперского общества
Короткий адрес: https://sciup.org/14335590
IDR: 14335590
Текст научной статьи Отчуждение как причина распада государства: от Рима до СССР ?
Поводом для написания этой статьи стала работа «Миграционная политика и геополитические интересы России», которую пришлось рецензировать. Учащийся, опираясь на выводы отeчественных политологов, старательно переписал в черновом варианте своей работы: «Анализируя события, связанные с перестройкой и ее последствиями, следует заметить, что распад СССР не был фатальной неизбежностью. Он обусловлен в большей мере субъективными, нежели объективными факторами». Как представляется, этот вывод об элементе случайности в гибели такого политического образования как империя достаточно сомнителен с научной точки зрения.
∗ Sinichenko V., Kuznetsov A. Alienation as reason of disintegration of the state: from Rome to the USSR?
СССР, как и Римская республика, рухнул не по субъективным, а по объективным обстоятельствам, которые находили свое выражение, в том числе и в различных формах субъективных проявлений: трусости, пассивности, алкоголизме, безнравственности, культе денег и пр.
Вывод о том, что упадок духа ведет к гибели государства, не нов в истории. Ряд европейских авторов ХIХ-ХХ вв., начиная с Теодора Моммзена винят в падении Римской империи распространение христианского вероучения. Часть современных западных историков указывают среди причин падения Рима идейную деградацию и падение нравов.
Так, в английской историографии делается вывод: «основная причина экономического упадка империи фактически заключалась в увеличении численности (с экономической точки зрения) иждивенцев – сенаторов с их многочисленными семьями (указание существенное, если иметь ввиду типичные семьи с двумя тысячами обслуживающего персонала – авт.), декурионов, гражданских служащих, адвокатов, солдат, священнослужителей, столичных жителей – по сравнению с производителями. В результате бремя налогов и рентной платы несло крестьянство, которое постепенно вырождалось.» [2, с. 533].
Здесь мы видим, что в качестве причины крушения империй отмечается падение эффективности системы управления и рост паразитарности имперской системы и части населения, близкой к власти, угнетение производительных и творческих сил об- щества. В условиях же культуры иждивенчества пассивность и отчуждение становятся основой поведения, как масс, так и элиты.
Действительно, среди других причин, империи губит паразитизм, отсутствие потребности и привычки к напряженному труду. А когда по причине открытого Й. Шумпетером экономического цикла легкий труд (рано или поздно) заканчивается, а иждивенчество как льгота по традиции остается, общество и государство гибнут.
Итак, в центре нашего исследования иждивенчество, пассивность, коррупция. Мы находим эти явления, как в поздней Римской империи, так и в «СССР периода застоя».
Признаки пассивности проявлялись, прежде всего, в отношении к труду. В Древнем Риме труд вообще был делом не благородным. Трудились только рабы. Они выполняли работы в городском коммунальном хозяйстве, были работниками ремесленных мастерских. Единственный труд, который одобрялся в античном обществе – был труд землевладельца. Однако в Поздней Римской империи появилось такое явление как колонат. Колонат – особая форма производственных взаимоотношений между непосредственным производителем и крупным землевладельцем, наиболее распространённая система земельного держания в поздней Римской империи, при которой землевладелец передавал в держание арендатору земельный участок, иногда с инвентарем. Колон стал основной формой эксплуатации земледельцев и являлся переходной формой к феодальной зависимости. В результате появления колонов отношение к сельскому труду стало таким же, как к труду рабов.
В Советском Союзе труд хотя и признавался делом каждого, но внуки тех, кто выиграл Великую Отечественную Войну и создавал новейшие оружие и технику, мечтали о легкой, но доходной работе, о состоятельном женихе, о том, чтобы иметь шикарные джинсы, мебель и автомашину. А при перестройке - стать кооператором и «заколачивать деньгу». Налицо моральный регресс.
Общие черты, отражающие отношение человека к обществу и государству, прослеживаются в Риме и СССР и в области военной службы. В позднем Риме армия «варваризирует-ся». В основном в ней служат представители провинций и германских народов, мигрировавших на территорию Рима. В позднем СССР значительную часть армии составляли призывники из демографически благополучных Кавказа и Средней Азии.
Совпадения видны и в случаях самоорганизации населения.
В V-VI вв. в Западной империи историками отмечаются факты общей пассивности перед лицом крушения государства. Указывается на то, что «Представители высших классов либо обращались в бегство…либо оставались и вступали в сговор с предводителями варваров…. Они безропотно принимали свою судьбу…Низшие слои общества отличались инертностью. Горожане занимали при сражениях укрепленные позиции на стенах города, но с той лишь целью, чтобы не подвергнуть себя насилию, а если им гарантировали безопасность, с охотой сдавались в плен… разбегались в панике, хотя чаще с покорностью принимали свою судьбу. [2, с.534-535].
Точно так же если бы вдруг некто стал делать случайную выборку из всех существующих материалов, неизбежно должен был бы придти к выводу об исключительно «справедливом» режиме в СССР. И этот некто долго не мог бы объяснить, почему столь замечательный режим пал от мятежной группы численностью в несколько тысяч человек, пришедших к зданию правительства 20-21 августа 1991 года.
Мы добавим к этому и обнаруженный и известный историкам эффект, описанный в работе Е. Н. Старикова. [3, с. 137]. Это пример исторической гибели инкского государства Туантисуйу, когда с приходом испанцев (всего 110 пехотинцев и 67 всадников), глава и жрец Атагуальпа, попав в плен к испанцам, оставил свою страну в полной беззащитности, в пассивном ожидании вождя, чем и воспользовались испанцы. Пассивность, таким образом, феномен и в более ранних стадиально, древних изолированных центрах земледелия.
У Е. Н. Старикова логика такова: сверхцентрализация ведет к отсутствию обратных связей, далее возникает «жесткость и стремление к застою, окостенению – и далее неспособность адаптации к вызовам истории», т.е. пассивность [3, с. 36].
Рассуждая о пассивности, мы упомянем, о работе Виттфогеля
(Wittfogel K.-A "Oriental despotism" New Haven, 1957), немецкого историка, придерживавшегося теории азиатского способа производства. Этот исследователь утверждает общность древних форм государственного производства и современных тоталитарных систем типа советского режима.
В главе 5 «Тотальный террор, подчинение, одиночество» своей работы Виттфогель пишет об одиночестве, порожденном страхом. Как одиночество связано с пассивностью, мы покажем далее[4].
Страх быть вовлеченным или к чему-то причастным при имперском государстве ограничивает осторожного человека узкой сферой его личной и профессиональной деятельности. В результате доминирующим поведением человека позднего имперского общества является избегание вовлеченности во что бы то ни было без руководства самого государства и вне рамок государства. Власти империи ранее настолько часто изымали из общества и немедленно уничтожали всех активистов, не связанных с властью прямым исполнением ее, власти, поручений, что подданные приучались не демонстрировать каких-либо взаимодействий, организаций и коопераций, помимо санкционированных государством.
Поэтому в любых гибнущих империях от Рима до СССР мы видим проявление одного и того же феномена – отчуждения простого человека в массе, подавленного империей, или государственной иерархией труда, от активной деятельности, поскольку такая (публичная) деятельность опасна для государства и жестоко им наказывается.
Этот феномен отстраненности подданного от гибнущей империи, не желание простого человека защищать культурные, политические «завоевания» общества в котором он живет, мы наблюдаем и в Византии, и позже в Османской империи, многократно в Китае, Иране (Персии) и Индии.
Как это ни странно, но из ментальных представлений человека позднеимперского общества вытекает полная аномия – логически обоснованная аннигиляция нравственных форм и социальной ответственности индивида перед собою, близкими и обществом.
Когда государство предписывает тебе занять ту или иную нишу в социальной структуре и тебе известно, что сын сапожника станет сапожником, а сын генерала - генералом, возникает слабость и отсутствие веры в собственные силы, в возможность влиять на окружение. Вместе с тем, такая позиция весьма удобна, так как гарантирует определенное будущее и следовательно есть страх лишиться того, что имеешь. В свете известных психологических конструкций это «мотивация на избегание неудач» – воспитанная государством и уже существующей политической культурой «подчинения» – метапотребность – точнее «метастрах» – «избегание». Сформированная в массе населения такая конструкция – это практическая социальная культура отрицания норм или новая норма эпатажа отсутствия норм – некой свободы и творчества в подлости, своеобразное «рококо» от- рицаний и еще глубже – ментальность цинизма.
По поводу цинизма достаточно мнения и Абрахама Маслоу, который дает свои оценки по поводу «гражданственности» члена общества, его отношения к государству:
«Если человек лишен права на информацию, если официальная доктрина лжива и противоречит очевидным фактам, то такой человек, гражданин такой страны почти обязательно станет циником. Он утратит веру во все и вся, станет подозрительным даже по отношению к самым очевидным, самым бесспорным истинам; для такого человека не святы никакие ценности и никакие моральные принципы, ему не на чем строить взаимоотношения с другими людьми; у него нет идеалов и надежды на будущее. Кроме активного цинизма, возможна и пассивная реакция на ложь и безгласность – и тогда человека охватывает апатия, безволие, он безынициативен и готов к безропотному подчинению» [1, с. 93-94].
Что означает вывод Маслоу? Идеология государства и общества, расходящаяся с опытом (и потребностями) населения, ведет к социальной и гражданской аномии (аннулированию нравственных норм) в таком обществе.
Итак, в поздней империи ментальность смещается в сторону апатии, пассивности, цинизма и лжи (аномии).
Цинизм и ложь - крайняя форма развития политического мышления имперского государства в поздней фазе развития. В результате эволюции социальных норм равенство в общине народа-завоевателя разрушаются. Различие интересов элиты и населения разрушает и общину через раздельные социальные интересы страт. Цинизм, переходя из плоскости межэтнических отношений во внутри-социальные (титульного народа) отношения, становится сначала источником и потом результатом коррупции.
По поводу коррупции история других империй и опыт читателя подскажут немало иных примеров. Что касается коррупции (т.е. воровства) на всех социальных уровнях, то воровство есть презрение к владельцу. Коррупция политическая, осуществляемая первыми лицами государства, есть презрение к государству и обществу. Презрение к государству порождает и его гибель.
Список литературы Отчуждение как причина распада государства: от Рима до СССР ?
- Абрахам Маслоу. Мотивация и личность. Перевод А.М.Татлыбаевой. Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed.) /А.Маслоу. -N.Y.: Harper & Row, 1970; СПб.: Евразия, 1999. -478 с.
- Гиббон, Э. История упадка и крушения Римской империи /Э. Гиббон. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. -704 с.
- Стариков Е. Н. Общество-казарма от фараонов до наших дней. /Е.Н.Стариков. -Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. -420 с.
- Wittfogel K. A. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. /K. A. Wittfogel. -Yale University Press, New Haven, 1957. -556 p.