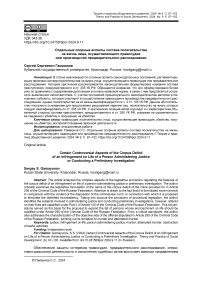Отдельные спорные аспекты состава посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или производство предварительного расследования
Автор: Гамаюнов С.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются сложные аспекты законодательных положений, регламентирующих признаки состава посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Автором критически рассматривается законодательная формулировка названия состава преступления, предусмотренного в ст. 295 УК РФ. Обращается внимание, что оно сформулировано более узко по сравнению с содержанием диспозиции уголовно-правовой нормы, в связи с чем предлагается устранить выявленное несоответствие. С учетом положений процессуального законодательства автором установлены субъекты, которые участвуют в осуществлении правосудия и производстве предварительного расследования, однако посягательство на их жизнь квалифицируется по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Данное обстоятельство послужило основанием для предложения расширения перечня лиц, посягательство на жизнь которых следует квалифицировать по ст. 295 УК РФ. С критических позиций автор подходит и к характеристике объективной стороны состава преступления, предусмотренного в ст. 295 УК РФ, указывая на ограниченность ее сведéния к убийству и покушению на убийство.
Правосудие, посягательство, лицо, осуществляющее правосудие, убийство, покушение на убийство, воспрепятствование законной деятельности
Короткий адрес: https://sciup.org/149146410
IDR: 149146410 | УДК: 343.36 | DOI: 10.24158/tipor.2024.9.11
Текст научной статьи Отдельные спорные аспекты состава посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или производство предварительного расследования
деятельности органов государственной власти. Для реализации данной задачи законодателем предусмотрена специальная система уголовно-правовых норм (гл. 31 УК РФ).
Одним из наиболее опасных преступных посягательств на указанные интересы считается посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Жизнь любого человека выступает самым важным благом, защищаемым средствами уголовного закона. Вместе с тем защита жизни потерпевших в рамках гл. 31 УК РФ позитивно оценивается не всеми специалистами в области уголовного права. В частности, можно встретить мнение, что статья 295 УК РФ является излишней, так как всякое умышленное причинение смерти специальному потерпевшему обладает признаками, предусмотренными в п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Бобраков, Карманов, 2008: 69). А.В. Курсаев вообще полагает, что статья 295 УК РФ является «мертвой нормой», в связи с чем ее следует убрать из Уголовного кодекса (2021: 40–42). Однако считаем обоснованным присоединиться к мнению Е.Н. Карабановой (2015: 27): постановка под уголовно-правовую охрану жизни лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, в рамках гл. 31 УК РФ призвана усилить уровень защищенности как самих потерпевших, так и интересов государства в столь важной области.
В определенной части и судебная практика идет по пути сужения сферы применения ст. 295 УК РФ. Так, например, в 1999 г. прокуратурой Краснодарского края было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении П., пытавшегося причинить смерть защитнику Г. из мести за изобличение его подзащитным всех участников организованной группы1.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2023 г. за посягательства на жизнь и здоровье лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, было осуждено 257 лиц, что составило около 2 % из числа всех осужденных по гл. 31 УК РФ (12 969 чел.)2.
Глава 31 УК РФ открывается статьей 294 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия или предварительного расследования. С одной стороны, это представляется вполне обоснованным ввиду того, что общественные отношения в сфере обеспечения интересов правосудия, рассматриваемых в широком смысле, выступают основным непосредственным объектом для всех преступлений, предусмотренных в гл. 31 УК РФ, а жизнь и здоровье – дополнительным или факультативным. Однако, с другой стороны, следует учитывать, что жизнь как дополнительный объект, согласно ст. 295 УК РФ, не просто усиливает общественную опасность посягательств на интересы правосудия, соответствующая норма направлена в том числе на защиту данного блага, самого важного для каждого физического лица. На непоследовательность законодателя в части регламентации состава преступления, предусмотренного в ст. 295 УК РФ, обращал внимание и А.А. Радченко (2013: 17).
В то же время законодатель главу 32 УК РФ («Преступления против порядка управления») начинает со ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), несмотря на то что основным непосредственным объектом посягательства и здесь выступает не жизнь, а общественные отношения в сфере обеспечения реализации надлежащего порядка управления в государстве. В связи с этим главу 31 УК РФ следовало бы начинать с нормы, предусматривающей посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное расследование, что придало бы логическую последовательность систематизации составов преступлений в рамках Особенной части УК РФ.
Наряду с возражениями относительно места расположения ст. 295 в гл. 31 УК РФ критические замечания вызывает и формулировка названия самого преступления. Деяние, направленное на лишение жизни, исходя из него, совершается исключительно в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Однако представленный в диспозиции ст. 295 УК РФ перечень потерпевших позволяет сделать вывод, что деятельность, в связи с которой осуществляется посягательство на жизнь, наряду с осуществлением правосудия и предварительного расследования может быть связана с содействием таковому (например, выполнением функций эксперта, специалиста), а также с исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта (исполнением обязанностей сотрудника органов принудительного исполнения РФ). Полагаем, что расширение перечня общественно опасных деяний должно по объему соответствовать названию состава преступления.
Выделение преступления, предусмотренного в ст. 295 УК РФ, наряду с общим составом убийства лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), обусловлено рядом обстоятельств. Одним из них выступает специфика потерпевшего. Непосредственно в диспозиции ст. 295 УК РФ представлены следующие потерпевшие: судья; присяжный заседатель; иные лица, участвующие в отправлении правосудия; прокурор; следователь; лицо, производящее дознание; защитник; эксперт; специалист; сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации; близкие ранее обозначенных потерпевших. Сущность и значимость указанных лиц неоднократно раскрывалась в науке уголовного права (См., например: Бриллиантов, Косевич, 2008). Однако представляется, что законодатель не вполне обоснованно сократил его, не включив туда некоторые категории лиц, так или иначе связанных с осуществлением правосудия, предварительного расследования, содействия указанной деятельности и исполнению судебных актов.
Если обратиться к сущности отечественного процессуального законодательства, то в рамках различных видов судопроизводства в рассмотрении дела могут участвовать и иные лица, на которых могут быть обращены определенные формы принуждения в связи с их деятельностью, что будет негативно отражаться на интересах правосудия. Вместе с тем такие деяния подлежат оценке как посягательства на личность (ст. 105 УК РФ).
В частности, статья 45 КАС РФ определяет: «В судебном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители, лица, содействующие осуществлению правосудия, в том числе эксперт, специалист, свидетель, переводчик, помощник судьи, секретарь судебного заседания»1. Эксперт, специалист непосредственно упомянуты в диспозиции ст. 295 УК РФ, а указания на переводчика, помощника судьи и секретаря судебного заседания в ней нет, хотя их участие в производстве по делу также представляет большую важность. Данные лица могут вносить сведения в материалы дела, что в той или иной части будет иметь существенное значение для вынесения судебного акта. Представляется, что подобных лиц следует признавать потерпевшими от преступлений против правосудия, в частности посягательства на их жизнь.
В качестве потерпевшего в ст. 295 УК РФ назван защитник, который является субъектом исключительно уголовного судопроизводства. Его правовое положение определяется в ст. 49–53 УПК РФ2. Однако в ст. 45 УПК РФ указывается на представителя потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя, в ст. 48 – на законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Данные лица также могут осуществлять функции, которые в той или иной мере связаны с защитой прав и законных интересов лиц, вместе с тем посягательство на их жизнь не охватывается статьей 295 УК РФ, а требует квалификации по ст. 105 УК РФ. Такой подход представляется не совсем последовательным, что требует внесения корректировок в ст. 295 УК РФ.
Сложности теоретического и правоприменительного характера связаны с формулировкой объективной стороны состава преступления, предусмотренного в ст. 295 УК РФ. Практически все ученые единодушны в том, что объективная сторона рассматриваемого деяния выражается в убийстве или покушении на убийство указанного в диспозиции ст. 295 УК РФ потерпевшего (см., например: Верещагина, 2022: 77; Максимов, 2012: 47; Сеничева, 2014: 91; и др.).
С одной стороны, такой подход основан на объективных событиях, которые имеют место быть. С другой – представленная позиция не отражает тех особенностей и идей, которые законодатель предполагал при конструировании данного состава преступления. Если состав убийства (ст. 105 УК РФ) сконструирован как материальный, что предполагает связь момента его окончания с наступлением смерти потерпевшего, то посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное расследование, сконструировано как усеченный состав. Это означает признание преступления оконченным на более раннем этапе реализации преступного намерения. Уже с момента начала совершения деяний виновного лица, направленных на лишение жизни потерпевшего, посягательство следует признавать оконченным. Именно последнее обстоятельство и привело к формированию мнения о возможности признания рассматриваемого преступления оконченным с момента покушения на убийство (Лопашенко и др., 2023: 98).
Полагаем, что объективную сторону состава преступления, предусмотренного в ст. 295 УК РФ, не следует характеризовать посредством применения терминов «убийство» и «покушение на убийство». Несмотря на то что многие ученые отмечают, что статья 295 УК РФ выступает специальной нормой по отношению к п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Борков, 2022: 79; Карабанова, 2020: 63), представляется, что убийство и посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное расследование, являются самостоятельными составами преступлений. По этой причине в УК РФ нет упоминания об убийстве вне рамок составов преступлений, предусмотренных в ст. 105–108, 110–110.2 УК РФ. В соответствующих частях ст. 205, 206, 281 УК РФ применяется термин «умышленное причинение смерти», а не «убийство». В ст. 277, 295 и 317 УК РФ законодатель также не использует категорию «убийство», а указывает на «посягательство на жизнь». Если посмотреть на санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 295 УК РФ, то в последней нижний порог такого наказания, как лишение свободы на определенный срок, выше (12 лет). При этом уже самого факта начала совершения соответствующего деяния, направленного на умышленное лишение жизни потерпевшего, достаточно для назначения всех указанных в законе видов наказания в отличие от покушения на убийство, при наличии которого применяются специальные правила назначения наказания, предусмотренные в ст. 66 УК РФ.
На схожий состав преступления, предусмотренный в ст. 317 УК РФ, распространяется аналогичный рассмотренному ранее подход. В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2023 г. № 14 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 317, 318, 319 Уголовного кодекса Российской Федерации», «под посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего, а равно их близких в статье 317 УК РФ понимается убийство или покушение на убийство таких лиц. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего, а равно их близких, независимо от наступления общественно опасных последствий, охватывается статьей 317 УК РФ и не требует ссылки на часть 3 статьи 30 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 105 УК РФ»1.
Такой же подход к характеристике объективной стороны посягательства на жизнь часто встречается и в практике применения уголовного закона. Так, в кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 23 сентября 2004 г. № 14-О04-37 указано следующее: «Судом дана неправильная правовая оценка действиям Алтухова по эпизоду убийства судьи З. <…> Суд обоснованно показания Алтухова на предварительном следствии, в которых он признал себя виновным в умышленном убийстве З., признал достоверными, поскольку они получены с соблюдением закона, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в суде, подтверждены другими доказательствами по делу, анализ которых дан в приговоре»2. Несмотря на то что в определении дается оценка показаний осужденного, его защитника, суд, описывая сущность преступного поведения виновного, все же использует термин «убийство», а не «посягательство на жизнь судьи», хотя квалифицирует содеянное по ст. 295 УК РФ. Полагаем, что в приговорах следует применять законодательные формулировки и четко проводить разграничение между убийством и посягательством на жизнь лица, осуществляющего правосудие или производство предварительного расследования. Это позволило бы снять многие научные споры.
В другом акте, признавая правомерным назначенное по ст. 295 УК РФ наказание, Верховный Суд РФ в апелляционном определении от 21 мая 2013 г. № 13-АПУ13-4СП указал следующее: «При назначении осужденному основного вида наказания судом приняты во внимание характер и степень общественной опасности деяния, которое хотя и относится к категории особо тяжкого преступления, однако не было доведено до конца, в связи с чем была предотвращена возможность наступления более тяжких последствий»3. Такая формулировка вызывает серьезные возражения.
Во-первых, не доведенными до конца преступлениями в соответствии со ст. 30 УК РФ выступают приготовление или покушение на него. В последней ситуации виновный не успевает выполнить в полном объеме объективную сторону состава преступления, предусмотренную диспозицией статьи Особенной части УК РФ. В случае совершения посягательства на жизнь в рамках ст. 295 УК РФ виновный осуществил свое намерение, которое выразилось в действиях, направленных на лишение жизни потерпевшего.
Во-вторых, не доведенная до конца деятельность в соответствии с ч. 3 ст. 29 УК РФ предполагает квалификацию по статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 30 УК РФ. В рассматриваемой ситуации такого не происходит, содеянное в полной мере охватывается статьей 295 УК РФ.
Распространение подхода к объективной стороне посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное расследование, как к таковой применительно к убийству или покушению на него порождает и некоторые спорные позиции относительно субъективной стороны данного преступления. Так, существует мнение, что причинение смерти лицу, осуществляющему правосудие или предварительное расследование, возможно как с прямым умыслом, так и с косвенным (Верещагина, 2022: 77). Эта позиция представляется сомнительной. На возможность совершения преступления, предусмотренного в ст. 295 УК РФ, лишь с прямым умыслом уже неоднократно указывалось как в науке (Конюхов, 2015: 241; Лобанова, 2012; Мартыненко, 2015: 114; и др.), так и в судебной практике4.
Приведем собственные возражения против обозначенной позиции.
Во-первых, сам законодатель сконструировал состав по типу усеченного, что уже само по себе не предполагает включение в объективную сторону наступление последствий, а связывает ее лишь с совершением определенного деяния (причем «укороченного» по сравнению с тем, что задумано самим лицом), которое лицо должно не только осознавать как общественно опасное, но и желать его выполнения.
Во-вторых, в качестве обязательного признака субъективной стороны рассматриваемого преступления выступает цель (воспрепятствование законной деятельности потерпевших) или мотив (месть за осуществление потерпевшими обязанностей в рамках их полномочий), что предполагает исключительно желание виновного выполнить задуманное.
Таким образом, выработанный в науке и судебной практике подход к характеристике объективной, а в некоторой части и субъективной стороны посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие и предварительное расследование, видится спорным и подлежащим корректировке. Все сказанное свидетельствует о необходимости внесения изменений в содержание ст. 295 УК РФ и уголовно-правовую характеристику предусмотренного в ней состава преступления, которые бы исключили спорные и неудачные законодательные формулировки, а также позволили бы точно и правильно понимать и применять уголовный закон.
Список литературы Отдельные спорные аспекты состава посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или производство предварительного расследования
- Бобраков И.А., Карманов О.А. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование: уголовно-правовой анализ: монография. Брянск, 2008. 159 с.
- Борков В.Н. Преступления, совершаемые при осуществлении правосудия, предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельности: монография. Омск, 2022. 179 с.
- Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Настольная книга судьи: преступления против правосудия. М., 2008. 557 с.
- Верещагина А.В. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 3. С. 72–82. https://doi.org/10.24412/2072-9391-2022-363-72-82.
- Карабанова Е.Н. Квалификация многообъектных преступлений: монография. М., 2020. 225 с.
- Карабанова Е.Н. Уголовная ответственность за посягательства на участников судопроизводства: монография. М., 2015. 182 с.
- Конюхов С.Ю. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, ст. 295 УК РФ // Совершенствование социально-экономической и научно-образовательной сферы как средство преодоления кризиса в России: материалы междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В.А. Очман. Кисловодск, 2015. С. 218–223.
- Курсаев А.В. Причины наличия «мертвых» норм в Уголовном кодексе Российской Федерации // Право: история и современность. 2021. № 1 (14). С. 37–44. https://doi.org/10.17277/pravo.2021.01.pp.037-044.
- Лобанова Л.В. Уголовно-правовые гарантии безопасности участников процессуальных отношений нуждаются в совершенствовании // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5: Юриспруденция. 2012. № 2 (17). С. 182–190.
- Лопашенко Н.А., Голикова А.В., Ковлагина Д.А., Комягин Р.А. Преступления против правосудия (гл. 31 УК РФ). М., 2023. 558 с.
- Максимов С.В. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие // Уголовное право. 2012. № 1. С. 45–51.
- Мартыненко Н.Э. Уголовно-правовая охрана потерпевшего: монография. М., 2015. 414 с.
- Радченко А.А. Преступные посягательства на участников процесса доказывания: монография. М., 2013. 253 с.
- Сеничева П.В. Уголовно-правовая характеристика и некоторые аспекты квалификации преступлений, предусмотренных статьями 277, 295 и 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенствование законодательства по их охране // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: Юриспруденция. 2014. № 2. С. 86–94.