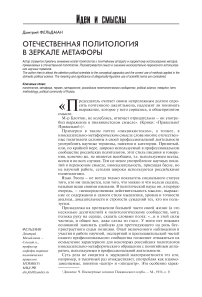Отечественная политология в зеркале метафоры
Автор: Фельдман Дмитрий Михайлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 10, 2012 года.
Бесплатный доступ
Автор стремится привлечь внимание коллег-политологов к понятийному аппарату и корректному использованию методов, применяемых в отечественной политологии. Рассматривается смысл и значение иносказательно-переносного использования научных терминов.
Политология, метафора, термин, методология, российское политологическое сообщество
Короткий адрес: https://sciup.org/170166117
IDR: 170166117
Текст научной статьи Отечественная политология в зеркале метафоры
« П редседатель считает своим непреложным долгом спро-сить почтенного джентльмена, надлежит ли понимать выражение, которое у него сорвалось, в общепринятом смысле.
М-р Блоттон, не колеблясь, отвечает отрицательно — он употре-бил выражение в пиквикистском смысле». (Крики: «Правильно! Правильно!»)1.
Примерно в таком почти «пиквикистском», а точнее, в иносказательно - метафорическом смысле слова многие отечествен -ные политологи склонны в своей профессиональной деятельности употреблять научные термины, понятия и категории. Принятый, или, по крайней мере, широко используемый в профессиональном сообществе российских политологов, этот стиль писания и говоре -ния, конечно же, не является всеобщим, т.е. используемым всегда, всеми и во всех случаях. Тем не менее употребление научных поня-тий в переносном смысле, иносказательность, присущая басне, но не научной работе, сегодня широко используются российскими политологами.
Язык Эзопа — не всегда только показатель социального статуса того, кто им пользуется, или того, что можно и что нельзя сказать, называя вещи своими именами. В политической науке он, в первую очередь, — «непосредственная действительность мысли», выраже ние ее содержания и самого стиля мышления, уровня и точности анализа, доказательности и строгости суждений тех, кто им поль зуется.
Принадлежа на протяжении большей части своей жизни (а это несколько десятилетий) к политологическому сообществу, могу, положа руку на сердце, сказать словами поэта: «...и я этой силы частица, и общее все, даже слезы из глаз». У меня нет никаких оснований занимать удобную для претендующего на роль бес пристрастного судьи позицию. Опыт включенного наблюдения и участия в работе научной, экспертной и преподавательской частей нашего профессионального сообщества позволяет отважиться на осмысление характерного для некоторых российских политологов иносказательно метафорического обращения с понятийным аппа ратом, используемым в профессиональной деятельности.
Суть дела не сводится к заурядной малограмотности тех кто, например, в тысячный раз отождествляет, употребляя как взаимо заменяемые, понятия «центр» и «эпицентр». Это особенно харак терно для выступающих с политическими комментариями по поводу событий в каком-либо «очаге напряженности». Судя по словам таких обозревателей, каждый из них одновременно работает и в центре, и в эпицентре событий, т.е. в двух удаленных друг от друга точках.
Куда более политически нагружены характерные для наших политических де -ятелей, работников СМИ и, увы, ученых-политологов вербальные конструкции и теоретические суждения, относящиеся к так называемому многополярному миру. Противопоставляя «униполярность» и «многополярность» как понятия, отража-ющие различные способы организации мирового порядка, уважаемые коллеги практически полностью игнорируют убе дительную научную критику этого слово употребления, с которой на протяжении многих лет выступают отечественные ученые1.
Нет сомнений в том, что все отече-ственные политологи окончили среднюю школу с оценками не ниже «удовлетво рительно». Следовательно, они должны знать, что в любой нормальной науке (не столько в куновском, а тем более в «пик викистском», сколько в общенаучном смысле этого термина) полюсов может быть или два, или ни одного. Содержание общенаучных терминов «полюс», «поляр ность», безусловно, известно и нашим политологам-международникам. Но употребляют они его в своем, если и не в «пиквикистском», то в иносказатель ном, метафорическом, широко приня-том и распространенном в отечественной политической науке смысле. Внимающие их рассуждениям граждане, особенно те, кто тоже успешно окончил среднюю школу, не могут не задаваться вопросами о научности нашей политической науки и своеобразии мышления тех, кто ею зани мается. Речь идет не о правомерности применения или адекватности перевода терминов science и humanity и, соответ -ственно, humanist и scientist в российской политической науке. Для отечественных политологов, в своем громадном боль шинстве работающих только на русском языке, это отнюдь не является насущ ным вопросом. И даже не о прогнозе международно-политических послед- ствий враждебной нам «униполярности» или желанной для многих «многополяр ности», также чреватой, как учит исто -рия международных отношений, крайне неприятными последствиями.
В данном случае в центре ( sic!) вни-мания автора находится теоретико-методологическая, а значит профессио нальная культура нашего политологи ческого сообщества, проявляющаяся в культуре политического дискурса, экспер тизы, анализа, дискуссии, преподавания политологии и т.д.
Именно уровнем профессионализма, а вовсе не почти забытым механицизмом определяется пристрастие отечествен ных политологов к «приводным рем ням», «рычагам» и «механизмам», якобы определяющим содержание, формы и направленность политических процес сов. Причем оно присуще как тем из нас, которые о механицизме знают только из справочной литературы, наспех прочи танной в ходе подготовки к экзаменаци онной сессии, так и тем, кто «диалектику учил по Гегелю», а не по философскому словарю. К сожалению, сказанное отно сится и к мэтрам, стоявшим у истоков современной отечественной политоло-гии. Трудно забыть о том, что дискуссия о путях развития нашего общества в канун крушения СССР и «мира реального соци-ализма», ход которой определяли профес -сора и кандидаты различных (но всегда марксистско-ленинских!) общественных наук, шла как обсуждение «борьбы меха -низма ускорения с механизмом торможе ния».
При более глубоком проникновении в суть той полемики становится понятным, что механицизма в ней было ничуть не больше, чем оптической спектроскопии в трудах коллег, склонных рассматривать сложные общественно - политические процессы через некую метафорически иносказательную «призму». (Напомню читателю, что призмой в собственном смысле этого термина называется много гранник, две грани которого — осно -вания — равные многоугольники, рас -положенные в параллельных плоскостях, а другие грани — параллелограммы.) Как этот замечательный предмет при менить в политологическом анализе? Иносказательно метафорический подход открывает для использующего его совре менного политолога ничуть не меньше возможностей, чем реальная стеклянная призма для талантливо воспользовавшегося ею в конце XVII в. Исаака Ньютона. Например, можно, опираясь на опыт классиков совсем другой науки, предаться размышлениям об аберрации или дисперсии власти, дифракции и интерференции политического сознания, корпускулах или волнах мировой политики. Да мало ли научных понятий, которые применяются в метафорических суждениях для придания им недостающей научной строгости?
Склонность к подобному метафорическому наукообразию легко оправдать тем, что формирование и становление многих из нас проходило «в свете решений партийных органов», воплощенных в выделяемых ими идеологических и пропагандистских клише, предназначенных для «широких масс трудящихся». Политическая пропаганда, заменявшая для этих масс политическое образование, породила множество словесных шаблонов и штампов, призванных подчеркнуть научную обоснованность актуальных в данный момент лозунгов и установок. Некоторые из этих клише оказались очень популярными и до сих пор оказывают заметное влияние на характер и стиль мышления даже тех политологов, которые не сталкивались «вживую» с теорией и практикой «научного коммунизма».
Нетрудно объяснить и простить подобные «отдельные изъяны» при помощи метафоры: «родовые травмы российской политологии». Но чем объяснить и как понять массовую приверженность наших политологов к так называемым «факторам»?
Сегодня упоминание «факторов» и в устной, и в письменной речи российского политолога выглядит почти столь же обязательным, как присутствие Деда Мороза на новогоднем утреннике в детском саду. Множество политологических работ, написанных в самых разных жанрах – от курсовой студента-первокурсника до коллективных монографий академических институтов, – посвящены необозримому числу политических, географических, военных, гендерных, природных, культурных, субъективных, сырьевых, объективных, пространственных, ядерных, возрастных и всех прочих существующих, а также изрядному числу не существующих, но исследуемых факторов. Рассмотрению их неоднозначного, определяющего, про- тиворечивого влияния, взаимодействия, сочетания, единства, столкновения, различия, общности, взаимообусловленности и независимого проявления мы уделили – без преувеличения – тысячи листов недешевой бумаги.
Вражеский лжеученый, кремленолог и русофоб, по-видимому, увидел бы причины этого в отсутствии свободы мысли в России или в авторитарно-насаждаемом методологическом монизме. Более доброжелательный и проницательный, но «не наш» наблюдатель мог бы объяснить почти поголовное пристрастие российских политологов к «факторам» чем-то вроде «профессионального страбизма»1. Подобный взгляд на мир с этой точки зрения является как бы опознавательным знаком принадлежности к сообществу, меткой, позволяющей ориентироваться в отношениях «свой – чужой».
В свою очередь, будучи российским политологом, заинтересованным в успехе нашей общей работы, автор в поисках объяснения описываемого явления вправе задаться вопросом: не служит ли, например, замена человека «человеческим фактором», а России – «российским фактором», взаимодействующим с другими «факторами», подменой исследования политической действительности сочинением наукообразных заклинаний, как бы подкрепленных авторитетом науки?
Эта подмена еще облегчается, если «факторы» отождествляются с «акторами», а «акторы» – с «факторами». Причем для политологов-иносказателей, активно оперирующих метафорами, каждое из этих понятий, по их мнению, «составляющих своеобразную аналитическую единицу», может обозначать все, что заблагорассудится: государства, институты, религии, гендерные, языковые и прочие идентичности. Как не возликовать, получив одновременно и безбрежное поле научного исследования, и средство выработки столь же научных выводов!
Едва ли не каждый из нас если не писал, то читал нечто вроде: «…при рассмотрении данной проблемы через призму истории в ее единстве с современными процессами и грядущими изменениями, автор приходит к выводу: синергия взаимосвязанных факторов, влияющих на проявление разнонаправленных тенденций в системе противоречивого взаимодействия многообразных акторов, отчетливо обнаруживает не только комплексный, междисциплинарный характер исследуемой проблемы, но и неоднозначность прогнозируемых результатов ее решения. Это требует дальнейшего совершенствования функционирования как отдельных рычагов, так и принципов деятельности акторов, в своей совокупности определяющих эффективность механизма мониторинга и анализа факторов, обусловливающих результат продолжения исследования данной проблемы»1.
Суть и значение подобных суждений определяются не их истинностью, а бессодержательностью, предполагающей всепригодность и безошибочность сделанных выводов, почти полностью лишенных смысла. «Почти» – потому, что смысл производства подобной продукции, а тем более ее публикации, нередко заключается в обретении или подтверждении желанного для ее авторов формальнопрофессионального статуса.
Собственно научное, в частности, методологическое значение иносказательнометафорического подхода вызывает обоснованные сомнения. Его защитники и пропагандисты пытаются доказать научную состоятельность и правомерность подобного словоговорения, ссылаясь на вполне респектабельный «факторный анализ». Но используемое в этом смысле сочетание терминов «фактор» и «анализ» лишь по созвучию близко известному, давно и успешно применяемому в науках об обществе методу многомерной математической статистики, употребляемому для измерения взаимосвязей между статистически связанными признаками социальных объектов и позволяющему на основе парных корреляций получить набор укрупненных признаков. Именно их и называют факторами в научном понимании этого термина.
Критические замечания по поводу приблизительного, иносказательно- переносного использования понятийного и методологического аппарата и метафорического подхода к политическим исследованиям не определяются исключительно личным методологическим пуризмом автора. В числе своих куда более значительных предшественников и соратников я с удовольствием вижу великое множество таких ученых, как Аристотель, Р. Декарт, К. Шмитт. К ним принадлежат и все те, кто предпочитает научную добросовестность научной моде, не руководствуясь популярным во все времена принципом: «чего изволите?».
Неоднозначность научных терминов обусловливает для ученого, в т.ч. профессионала-политолога, необходимость зафиксировать их содержание хотя бы применительно к данному исследованию, акту экспертизы или публичному выступлению. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Поэтому буду искренне рад аргументам, которые позволят мне отказаться от убеждения: применение в отечественной политологии понятий и методов, уже утвердившихся и широко распространенных в социологии, экономике, психологии, географии и других науках, предполагает их корректное использование и обоснование.
Скептическое отношение к метафоре как средству научного исследования не мешает увидеть в ней, как в зеркале, некоторые характерные черты современной российской политологии. Среди них вытеснение, а часто и подмена исследований, ориентированных на поиск истины и приращение научного знания, комментариями, посвященными «злобе дня». Именно для прикладной российской политологии сегодня особенно характерно вытеснение собственно научной деятельности деятельностью пропагандистской. Формально сохраняя или даже повышая свой профессиональный статус, политолог здесь работает не как ученый, а как деятель шоу-бизнеса. Популярность, доходчивая метафоричность его суждений закономерно вытесняют их научную строгость и содержательность. Соответственно, и полученные им результаты оцениваются не по их вкладу в науку, а по приносимым ими куда более осязаемым дивидендам.
Сегодня в России происходит снижение общеобразовательного уровня населения и политической элиты. Об этом свиде- тельствует не растущее число докторов и кандидатов наук, а уровень политиче -ских дискуссий, публичных выступлений и принимаемых политических решений. Это актуализирует популяризацию поли -тической науки, формирует «социаль-ный заказ» на общедоступное, простое и понятное политическое знание. Спрос на метафору в этих условиях становится не только массовым, но и платежеспособ-ным. Надо ли всем нам радоваться этому? Для тех, кто понимает, что популяриза-ция научного знания, его приращение и его практическое применение — разные, а иногда и разнонаправленные процессы, это — «радость со слезами на глазах».
В зеркале метафоры хорошо видно, почему российскими политологами экспертами практически не востребована парадигмальная изысканность мето дологических и, в частности, акторно факторных отечественных конструк ций, даже выполненных из зарубежных материалов. Учебно - библиографическое освоение результатов мировой поли тической науки вполне совместимо с иносказательно метафорическим под ходом к их популяризации в Отечестве.
Однако если в литературном обзоре, учебном пособии, лекции или на семи наре этот подход в какой то мере оправ дан, то его использование при выработке политических решений чревато отнюдь не метафорическим, а вполне реальным провалом. Учитывая, что консультативно экспертная работа наших политологов и без того намного больше связана с запро сами власти, чем с критериями научности принимаемых решений, метафора в любом политическом документе, претендующем на связь с реальностью, становится угро зой. Ее воплощение в политической прак-тике может углубить болезненно ощущае мый разрыв между словом и делом, между красивой фразой и действительностью.
Но сколь бы критически ни относиться к метафорически иносказательному под ходу, надо признать: «плохих» методов исследования в российской политиче ской науке куда меньше, чем политологов. Трезво рассматривая в зеркале своих раз -мышлений нашу общую приверженность метафоре, автор еще раз убедился в спра ведливости общеизвестной русской пого ворки: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива».