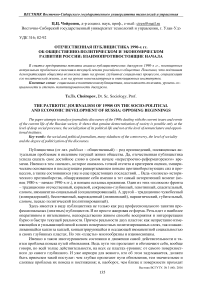Отечественная публицистика 1990-х гг. Об общественно-политическом и экономическом развитии России: взаимопротивостоящие начала
Автор: Чойропов Ц.Ц.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 3 (60), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка анализа публицистических дискурсов 1990-х гг., посвященных актуальным проблемам и явлениям текущей жизни российского общества. Показано, что подлинная демократизация общества возможна лишь на уровне глубинных социальных процессов, социализации его политической жизни, а не на уровне номенклатурных и оппозиционных институтов.
Социальная и политическая публицистика, многоликость полемики, уровень социальности и степень политизированности дискурсов
Короткий адрес: https://sciup.org/142143202
IDR: 142143202 | УДК: 316;
Текст научной статьи Отечественная публицистика 1990-х гг. Об общественно-политическом и экономическом развитии России: взаимопротивостоящие начала
Здесь имеется в виду публицистика не только как род профессионального занятия профессиональных (штатных) публицистов. И не просто жанровая ее форма. Речь идет о наиболее оперативном и интенсивном, непосредственно живом способе восприятия и интерпретации бурно и быстро текущей реальности. Причем реальности двух пластов: как непрестанно изменяющейся и уплывающей пеной в своих поверхностных политизированных слоях, так и накапливающейся капля за каплей, концентрирующейся и оседающей имманентной социальностью в своих глубинных пластах. Но эти «пласты» многообразны и взаимосвязаны.
Именно в таком многоуровневом состоянии и движении самой действительности и таится проблема поиска путей обновления. Ведь пути эти пролегают и обозначают себя, вообще говоря, по всей толще действительности, на всех ее пластах-уровнях: от самого поверхностного до самого глубинного. И уже априори для всякого, кто об этом задумывается, должен быть приемлем такой постулат: чем глубже пролегают пути обновления, тем значительнее и сложнее проблема их поиска и постижения; и, наоборот, чем ближе к поверхности проходят
Вестник ВСГУТУ. № 3 (60). 2016
ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления они (эти пути-дороги), тем легковеснее и проще проблема, а то и вовсе ее нет или она лишь кажущаяся. Сообразно с таким постулатом можно судить об уровне глубины или поверхностности обнаружения и постижения путей обновления общества или о зряшности и тщетности попыток. Стало быть, и публицистику (и любой иной способ познания) можно классифицировать и ранжировать соответственно уровням глубины жизни, а также оценивать по критериям уровня глубины-поверхностности поиска тех самых «путей». Посредством этого критерия можно определять («измерять») степень истинности-ложности отдельных публицистических работ. Такая начальная задача и стоит перед нами, поскольку речь идет именно о публицистике как специфическом способе поиска или камуфлирования истинных путей обновления.
Здесь уместно напомнить формулу известного литератора и публициста В. Гусева: истина находится ни справа, ни слева, ни даже посередине, но в глубине [1]. Применительно к нашей теме мы бы эту формулу модифицировали так: а) пути обновления общества пролегают не в поверхностных событиях, но в глубинных процессах; б) следовательно, проблема поиска таких путей таится не в поверхностном бурлении эмпирической реальности, но в недоступных непосредственному восприятию глубинных процессах, лишь частично и превращенно проявляющихся в эмпирии; в) конкретнее: действительная проблема поиска путей обновления содержится в действительном (внутреннем) противоречии между сущностными процессами глубинных пластов действительности и эмпирическими (внешними) способами проявления этих процессов; г) еще конкретнее - в противоречии между социальными процессами и институционально-политическими способами (и степенью) их проявления; или между социализацией (гуманизацией, демократизацией) и политизацией (институционализацией, бюрократизацией) общества; или между процессами социального (имманентного) самообновления общества (народа, человека) и его перестройкой (реформированием) посредством институциональнополитических механизмов...
В этом примерном перечне постулатов (его можно развернуть и дополнять) содержатся критерии определения (измерения) различных уровней глубины-поверхностности, имманентности-внешности, социальности-институциональности, социализированности-политизиро-ванности, истинности-ложности и т.д. - измерения как самих путей обновления (самообновления) общества, так и способов их познания. Для обсуждаемой темы качественным критерием (критерием всех критериев) является уровень социальности путей обновления и самообновления, а также - способов их познания и, следовательно, самопознания. Это - степень приближения к социальному качеству...
Вернемся к публицистике. Она, похоже, на самом деле оперативнее и интенсивнее других способов познания занималась поиском путей обновления общества и преуспела в этом деле. Ведь научно-фундаментальные и литературно-художественные способы освоения реальности столь оперативно давать результаты не могут.
Публицистика сама по себе многолика и «многослойна». Она различна: по степени постижения разных пластов-уровней действительности (от поверхностных до глубинных); по историческому охвату процессов и событий (от социальных истоков и перспективных тенденций до сугубой злобы дня); по тонкости выявления исторических взаимосвязей прошлого, настоящего и будущего; по уровню теоретичности-эмпиричности; по «технологии» постижения и толкования действительности (от анализа и обобщения процессов до компиляции фактов, фрагментов)… В конечном счете публицистика в нынешних условиях как бы «поляризована». А противостоящими ее «полюсами» являются, с одной стороны, уровень социальности (социализированности), с другой стороны, степень политизированности (отдаления от социальности). Только «полюсы» эти расположены не по «горизонтали», а по «вертикали»: внешний - внутренний и т.д. То есть не «правый» и не «левый», но глубинный и поверхностный, о чем уже сказано. Из всего многообразия публицистических работ мы отмечаем лишь те из них, которые противостоят друг другу по своей ориентированности: либо на выявление социального (глубинного) содержания процессов обновления общества, либо на поверхностные механизмы реформирования общества (стало быть, на камуфлирование, политизацию социальных процессов).
И еще одно пояснение. Имеются в виду противостоящие друг другу «начала» в публицистике, т.е. исходные принципы, концептуальные установки, поскольку о каких-то сколько-нибудь окончательных выводах и итогах в объяснении нашей «переходной», еще не состоявшейся социальной реальности, пока говорить рано и рискованно, даже публицистическими средствами. (Впрочем, призвание публицистики как раз и заключается в обнаружении и обозначении таких «начал», в обострении или притуплении социальных проблем). И даже получаемые итоги имеют в то же время значение «начал» для дальнейшего процесса познания, в том числе фундаментального…
Таковы два принципиально противостоящих и несовместимых подхода к восприятию, пониманию и объяснению истории, современного состояния и перспективы нашего Отечества и нас самих. Таковы два типа публицистики: социокультурологический (социализированный) и институционалистский (политизированный)…
О публицистике зашла речь вовсе не случайно. Ведь этому жанру ныне не так много внимания и сил уделяют писатели и литературоведы, историки и философы, экономисты и т.д. Правда, по поводу такого «жанрового смешения» все чаще высказываются сожаления и даже самосожаления, поскольку оно отвлекает творческую интеллигенцию от ее непосредственного (соответственно) профессионального и жизненного призвания. Такая досада в общем понятна и правомерна. В самом деле, интенсивное включение в публицистику – это переключение внимания и сил на текущую политику, т.е. перемещение приоритетов от фундаментального творчества к прикладному, прагматическому.
Не политизация ли приоритетов? (А мы, как уже заметил читатель, выступаем против такого тотального явления в нашей жизни!) Нет, в данном контексте – совсем наоборот. То есть наоборот постольку, поскольку духовно одаренные, талантливые люди (каждый в своем непосредственном призвании: писатель и литературовед, историк и философ… даже технолог) как раз через публицистику привносят в политику свое профессиональное мастерство и творческое начало, которые сами по себе имеют достоинство социальной (человеческой) ценности.
Да, политика по природе своей и технологии функционирования тяготеет к институционализации и бюрократизации, к идеологизации и юридизации, к оказениванию и перевоплощению в политиканство, а то и во «внешнюю» силу и средство насилия. В такой перевоплощенной и, по сути, переродившейся форме она играет антисоциальную роль, становится антикультурой. Это тот случай, когда политика, политизируясь сама, неизбежно противостоит социокультурным ценностям и имеет тенденцию «дурно» политизировать их. То есть склонна десоциализировать и дегуманизировать общественную жизнь в целом.
Но своими социальными началами политика сопротивляется деструктивным тенденциям «дурной» политизации и тем самым обнаруживает потребность в одухотворении, очеловечении, окультуривании… короче – в социализации. Она постоянно нуждается в социальной профилактике, в своеобразном, так сказать, социальном «переливании крови», чтобы не переступить «последнюю черту» и не превратиться в средство открытого насилия над социальной действительностью. (Если позволительна горькая шутка, то можно бы добавить: …чтобы не превратиться в средство «пускания» человеческой крови…)
Вот такую оживляющую и оздоровляющую миссию по отношению к политике и осуществляет публицистика. Разумеется, в исполнении талантливыми, совестливыми, нравственными, подлинно гуманными писателями, литературоведами, философами и т.п. мастерами культуры и науки. В самом деле, трудно представить (впрочем, может быть, это очевидно?), какими оказались бы политика, политики и политологи без благотворного влияния на них гуманистической (т.е. неполитизированной) культуры и науки…
Потому-то и досада смягчается и даже благоприятные чувства появляются, и человеческая признательность - от такого поистине стоического подвижничества многих наших деятелей культуры и науки, занявшихся публицистикой. Это они в худую годину, в периоды безвременья самоотверженно и бескорыстно, во благо спасения и возрождения социокультурных ценностей Отечества, отложив на время свои непосредственные художественно-творческие дела, посвящают свой талант делам гуманизации и социализации политики, испытывающей Вестник ВСГУТУ. № 3 (60). 2016
насущную потребность в таком участии… Называть буквально имена хотя бы наиболее характерных подвижников этого дела нет необходимости: они известны. Впрочем, тут имеется и доля риска не во всем точного отражения «общественного мнения». Однако проблема рейтинга - занятие других. А объективную оценку определит сама история...
Впрочем, социокультурное подвижничество этого типа - едва ли не постоянное, даже закономерное явление человеческой истории на протяжении всех эпох. Больше того, социально-философская мысль (и не только она) неоднократно акцентировала такое явление концептуально, как историческую необходимость. Например, древнегреческий мыслитель Платон в своей теории разделения видов человеческого труда и призвания (диалог «Государство») постулировал в качестве идеала «справедливости» (высшей ценности) такой императив: пока не станут философы управлять государством или правители философствовать - не жди конца злу! Надо заметить, что к сословию философов Платон относил не узкодисциплинарных профессионалов, а мужей мудрейших, т.е. духовно одаренных, способных отличать светлое от «теневого», великое от «пещерного», наделенных всеми человеческими добродетелями. И еще: по исторической необходимости и по воле судьбы мудрейшие мужи оказывались воспитателями и наставниками-советниками (нередко с драматическими последствиями для себя) юношей-престолонаследников и фактических правителей (даже диктаторов). Например, тот же Платон - у династии тиранов Дионисиев, Аристотель - у будущего императора Александра Македонского, Сенека - у тирана Нерона, Макиавелли - у церковно-светских правителей династии Медичи (драматическая попытка), Гоббс и Локк - у противоборствующих властителей Англии, Вольтер - у ряда коронованных особ разных государств и т.д. и т.п.
О подобного рода явлениях в истории Российского государства писать методом иллюстраций вряд ли уместно и позволительно. Это - особая тема: она так своеобразна и сложна, противоречива и драматична! Были, конечно, были (но, увы, именно были, да так давно!) на Руси и в России - и сами по себе философично мудрые князья-правители (наивысший уровень - это Александр Невский), и выдающиеся их духовные наставники, а в то же время великие подвижники и защитники Отечества (в Сергии Радонежском это явление обрело недосягаемую и уникальную высоту выражения). У российских царей как таковых относительный уровень соединения и проявления духовной мудрости с практической политикой в условиях сложившегося самодержавия, наверное, ниже, чем у ряда князей христианско-православной Руси. Более того, относительный уровень такого соединения скорее всего имел нисходящую эволюцию (обусловленную отчасти известной субординацией светской и духовной власти). Однако этот «дефицит» в какой-то мере восполнялся (правда, далеко не во всех случаях) чем-то похожим на «институты советников» (светских и духовных) при царских дворах.
Вместе с тем относительно нарастала (пожалуй, по восходящей линии) степень оппозиционного влияния российской интеллигенции на политику официального двора. Влияние не только критически-разрушительное, но и критически-спасительное (не путать с апологетическим!) Влияние, как бы «спасающее» официальную политику от деградации, от эскалации ее насильственных механизмов, от дегуманизации и десоциализации. Короче, профилактическое и оздоравливающее влияние посредством социокультурных ценностей. А такая роль исторически выпала на долю не одного какого-нибудь направления отечественной культуры, но многих - самых значительных и плодотворных. Представленных (если называть общеизвестные имена) Ломоносовым и Радищевым, Пушкиным и Лермонтовым, Гоголем и Достоевским, наконец, Л. Толстым, в том числе (если называть общеизвестные течения) «почвенничеством» (во главе с Достоевским) и «славянофильством», русской православной философией… Здесь же мы лишь акцентируем некоторые способы влияния публицистики на политику: оппозиционно-конструктивный (социокультурный) и оппозиционно-деструктивный (официозно-политизированный).
Нельзя, однако, в связи с этим не заметить, что с так называемым «институтом советников» советским и постсоветским политикам и политике в целом, увы, с самого начала и по сей день определенно «не везет». Они, эти институты и их персональный состав, были и пока еще остаются официозно-апологетичными, конъюнктурными. К тому же заурядными и ненадежными. Казалось бы, чем скуднее духовно, чем хилее социально, чем казеннее высший властвующий корпус, тем в большей степени должен обладать духовными, социокультурными потенциями корпус советников (такое соотношение встречалось в истории государств). Однако же нет: в наших официальных «верхах» действует преимущественно иное неписанное правило: «серое - от серого, серым - по серому» (парафраз гегелевской формулы). Как иначе понять и объяснить переобилие перекатывающихся от одного официального «двора» к другому, третьему, придворных персон? А ведь они выступают и в роли научных советников-консультантов, и в роли активных публицистов, делающих погоду в официальной публицистике.
Разумеется, и в среде штатных (здесь уместнее - профессиональных) публицистов всегда были, есть и будут по-человечески честные и добросовестные, профессионально и социально культурные, даже самоотверженные труженики. Многих из таких преследуют (причем с обеих сторон - официально-апологетической и официально-оппозиционной). Между тем штатные публицисты объективно находятся в таком служебном положении, которое обязывает их обслуживать текущую политику, ее прагматические задачи. В этом состоит их профессиональное предназначение. И вовсе не просто этим публицистам удержаться (если есть такое стремление) на уровне социально-человеческих проблем, не оказаться в плену политиканов и политиканства, не скатиться до соблазнительной, но жалкой роли официозного прислужничества.
Впрочем, прислужничество, подхалимство и лихоимство - это уже дело как бы надпрофессиональное, если угодно, «общечеловеческое» (со знаком «минус», разумеется), людское. Таким «делом» могут заниматься и постоянно занимаются отдельные персоны и целые группировки безотносительно к своему профессиональному и социальному положению. Хотя, конечно же, мера этого социально отчужденного, дурно политизированного состояния, пожалуй, прямо пропорциональна степени приближенности к пирамиде официальной политики и к находящимся на ступенях этой пирамиды политикам. И наоборот: степень «отдаленности» обратно пропорциональна… Здесь имеет место эффект «придворности», «псевдополитизированности» - в первом варианте, а также эффект якобы «аполитичности» и «деполитизированности» - во втором варианте. Эффект «придворности» можно иллюстрировать множеством эмпирических примеров из различных эпох и периодов нашей (и не только нашей) официальной истории. Нынешняя ситуация особенна показательна в этом смысле вследствие ее переходного характера («безвременье»): «приаппаратные» и «околоаппаратные» мимикрии - ее примета, специфический знак. Более того, таким «знаком» отмечен весь административногосударственный аппарат, прежде всего высший.
Отчасти объективно-стихийное, а отчасти капризно-нарочитое, но в целом причудливопарадоксальное сочетание самых «поздних» и самых «ранних», т.е. уже увядающих, но еще не отпавших, и уже прорастающих, но еще не проросших, официальных «структур». Ну ни конгломерат ли это? Именно конгломерат. К тому же предельно политизированный - как в своей суммарной совокупности, так и в каждой части. Но главная его (аппарата) особенность в том, что он имеет очень малую долю социальной обусловленности, направленности и действенности. Это - «плавающая структура» в конгломерате ей подобных тоже «плавающих структур» - приаппаратных и околоаппаратных. И все они (во всяком случае центральные) -на поверхности социальной действительности. То есть все они предельно политизированы, будучи мало социализированными.
Это - состояние формально-институционального «многовластия» (юридическая видимость «разделения властей») и содержательно-социального безвластия (отсутствие суверенной власти в обществе). Именно такова суть «текущего (точнее, плавающего) момента» и причина кризиса власти. Именно в таком противоречивом состоянии таится действительная проблема - проблема социализации политического аппарата власти и всех его институтов (при-аппаратных и околоаппаратных). Но отнюдь не в «перестраивании» (фактически - перетряхивании, перетасовке звеньев) той же политической пирамиды как таковой. И не в манипулиро- вании «старыми» и «новыми» институтами как таковыми. Тем паче – не в их дальнейшей «политизации-деполитизации»…
Между тем целенаправленная и стихийная «перетасовка» и осознанно-нагловатая само-передислокация дюжины политизированных должностей и персон, институтов и группировок в огромной и все разрастающейся номенклатурной пирамиде – продолжается и наращивается. И очень жаль, что эта политизированная суета выдается за реформу или «революцию сверху», за «демократизацию» политической системы. Будто подлинная демократизация политической системы общества возможна лишь на уровне номенклатурных и оппозиционных институтов. То есть вне глубинных социальных процессов, вне социализации политической жизни именно общества.
Список литературы Отечественная публицистика 1990-х гг. Об общественно-политическом и экономическом развитии России: взаимопротивостоящие начала
- Гусев В.И. Дневник-92//Московский вестник. -М., 1994. -№ 1