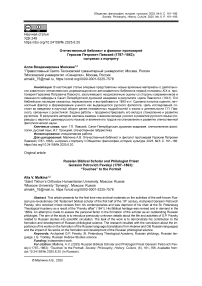Отечественный библеист и филолог протоиерей Герасим Петрович Павский (1787–1863): «штрихи» к портрету
Автор: Малкина А.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье впервые представлены новые архивные материалы о деятельности известного отечественного дореволюционного ветхозаветного библеиста первой половины XIX в. протоиерея Герасима Петровича Павского, заслужившего неоднозначную оценку со стороны современников и лишенного кафедры в СанктПетербургской духовной академии в результате «дела Павского» (1841). Его библейское наследие оказалось пересмотрено и востребовано в 1880е гг. Сделана попытка оценить личностный фактор в формировании ученого как выдающегося русского филолога. Цель исследования состоит во введении в научный оборот ранее неизвестных подробностей о жизни и деятельности Г.П. Павского, связанных с русистикой. Задача работы – продемонстрировать его вклад в становление и развитие русистики. В результате автором сделаны выводы о важном вкладе ученого в развитие русского языка (переводы с иврита и древнерусского языков) и влиянии его трудов на становление и развитие отечественной филологической науки.
Прот. Г.П. Павский, Санкт-Петербургская духовная академия, отечественная филология, русский язык, И.Г. Троицкий, отечественная гебраистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149148206
IDR: 149148206 | УДК: 248 | DOI: 10.24158/fik.2025.6.20
Текст научной статьи Отечественный библеист и филолог протоиерей Герасим Петрович Павский (1787–1863): «штрихи» к портрету
Введение . Имя протоиерея Герасима Петровича Павского хорошо известно в отечественной богословской науке как имя первого отечественного ветхозаветного библеиста, выпускника и преподавателя древнееврейского языка Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА), законоучителя детей императора Николая I, основателя отечественной библейско-исторической школы. Его личность и труды неоднократно становились предметом исследований конца XX – начала XXI вв. Данное исследование приурочено к памятной дате – 175-летию со дня публикации его капитального четырехтомного труда по русистике «Филологические наблюдения над составом русского языка» (1850)1, ставшего вехой в развитии отечественной филологической науки.
Отдельным аспектам его биографии и наследию (историко-богословскому, лингвистическому и научно-педагогическому) уделялось внимание в многочисленных работах современных теологов, лингвистов и историков: И.Д. Климушина2, прот. К. Копейкина (Копейкин, 2005), Б. Тихомирова (Тихомиров, 2014), Н.Ю. Cуховой (Cухова, 2014), cвящ. А. Зиновкина (Зиновкин, 2014), С. Рябушкиной (Рябушкина, 2015), Д. Долгушина (Долгушин, 2022). Вместе с тем недостаточно исследованными остаются многие биографические архивные материалы, хранящиеся в ОР РНБ (Ф. 557). Их изучение cпособствует воссозданию недостающих «штрихов» к портрету знаменитого ученого, проясняющих личностный фактор и некоторые детали биографического характера, а также его роль и отношение к становлению отечественной русистики, развитие которой в настоящее время представляется актуальнейшей задачей государственного уровня.
Цель настоящего исследования состоит в раскрытии ранее не опубликованных подробностей биографического характера, характеризующих отношение Г.П. Павского к русскому языку на основе архивных материалов. Мы стремились проанализировать и оценить вклад ученого в становление и развитие русистики.
В ходе работы использовались общенаучные и исторические (cравнительно-исторический, ретроспективный) методы.
Основная часть . Жизнь и деятельность протоиерея Г.П. Павского можно разделить на два периода: библейско-богословский (до 1841 г.) и филологический (после 1841 г.). Неудача его как богослова оказалась восполнена после отставки из СПбДА трудами по русской филологии, прославившим и ученого в звании российского академика. Названный В.А. Жуковским «другом просвещения», он удостоился Демидовской премии за русскую грамматику (1841/42) и почетного звания академика.
Герасим Петрович Павский – выходец из «поповичей», сын священника Петра Макарьевича из села Павский погост, на протяжении всей жизни он сохранял связь c родителями и родственниками, оказывал им посильную материальную поддержку из Петербурга, о чем свидетельствует переписка c членами семьи3.
Многочисленные библейско-богословские труды Г.П. Павского (от авторских переводов ветхозаветных книг до учебников для царских детей) вызывали неоднозначную оценку со стороны современников: от восторга (А.П. Хергозерский) до неприятия, зависти, обвинения в непра-воверии cо стороны высших синодальных кругов (Агафангел (Cоловьев)) (Малкина, 2025 б: 169). В результате «дела Павского» (1841) он был отстранен от должности законоучителя царских детей и профессорства в СПбДА4, но не отчаялся и посвятил себя русской филологической науке, понимая необратимость динамичного процесса русификации отечественной библеистики и русского богословия в целом. В cозданной им грамматике русского языка отразились его гебраисти-ческие воззрения на центральное положение глагола как главной морфологической категории.
«Загадка» гения Г.П. Павского состояла в яркости личностного фактора: безусловном лингвистическом таланте и смелости суждений, предвосхитивших свое время. Первый русский гебраист «донаучного» периода стал автором первого отечественного учебника по грамматике древнееврейского языка для семинарий (1818) и (неизданного) еврейско-русского словаря, а также популяризатором русского языка как языка формировавшейся отечественной библейско-богословской науки. Его авторские переводы ветхозаветных книг с древнееврейского масоретского текста (МТ) на русский язык были распространены в виде трех тиражей литографических конспектов лекций cтудентами СПбДА, но подверглись запрету и изъятию. Труды по русской филологии получили высокую оценку со стороны университетских ученых: А.Х. Востоков рекомендовал «Филологические заметки» на Демидовскую премию (1844), М.П. Погодин отмечал заслуги Г.П. Пав-ского как выдающегося русского ученого1.
Библейско-богословская часть наследия ученого получила заслуженную высокую оценку лишь во второй половине XIX в., в связи с возобновлением и завершением работы над русским Синодальным переводом Библии (1876) при либеральном императоре Александре II – воспитаннике Г.П. Павского. Его заслуги перед отечественной наукой были высоко оценены прот. А. Орловым (1863) – автором некролога и первой биографии Г.П. Павского2.
Академическое богословие СПбДА в годы ректорства прот. Иоанна Янышева (1866–1883) избрало курс на усиление специализаций, а либеральный Устав 1869 г. привел к сильной ориентации на западную библейско- богословскую науку, мало адаптированную к православной догматике. В этой связи было пересмотрено отношение к библейским переводам Г.П. Павского, которые оказались востребованы в работе над новыми ветхозаветными переводами на русский язык в составе Синодальной Библии (1876).
В трудах cвящ. C. Протопопова3, И.Г. Троицкого4, А.C. Родосского5 сравнительно-исторический метод, сторонником которого был Г.П. Павский, переосмыслялся как передовой и необходимый для дальнейшего развития православной библейско-богословской науки. 100-летие со дня смерти Г.П. Павского (4 марта 1887 г.) широко и торжественно отмечалось в СПбДА. А. Родосский назвал Герасима Петровича «первенцем академии» и «светилом науки», которым «вправе гордиться академия»6.
В «Церковном вестнике» была опубликована статья о научном наследии Г.П. Павского, в которой перечислялись 11 рукописных тетрадей, обнаруженных Н.И. Барсовым7, среди которых особого внимания заслуживает написанная, но неопубликованная «Русская грамматика в руководство школ военных кантонистов» (1820)8. Учебник Г.П. Павского для крещеных еврейских мальчиков-кантонистов, призывавшихся на 25-летнюю военную службу при императоре Николае I, так и не был издан в связи с отставкой автора. Вместо него в отечественное образование было внедрено пособие из 111 уроков в вопросно-ответной форме «Руководство к преподаванию российской грамматики в баталионах и полубаталионах военных кантонистов. Для верхнего класса» (фонетика и морфология)9.
В 1880-е гг. в отечественную ветхозаветную библеистику широко внедрялся сравнительноисторический метод, и потому роль Г.П. Павского как первого русского гебраиста подверглась пересмотру. Так, его преемник по кафедре древнееврейского языка и библейской археологии проф. И.Г. Троицкий в торжественной актовой речи отмечал выдающиеся филологические заслуги Г.П. Павского, сравнив его вклад в науку со знаменитыми немецкими современниками. Он назвал его «русским Гезениусом», превзошедшим своего «немецкого сверстника широтой своего научного кругозора и глубиной знания отечественного языка», основоположником историко-филологического метода, значение трудов которого в области русского языкознания не уступало В. Гумбольдту. В изучении Г.П. Павским санскрита, зендского (иранского), финского и славянских языков после отставки И.Г. Троицкий усмотрел основу для «исследования грамматического и лексического состава русского языка»1.
Русский перевод Г.П. Павского «Слова о полку Игореве»2 был впервые опубликован в 1880 г. в журнале «Русская старина» протоиереем Г.А. Орловским и назван И.Г. Троицким «лучшим среди других»3. Несмотря на утрату первых 17 cтрок, перевод, написанный в стиле верлибра, объединенного в строфы, заслужил высокую оценку как сохранивший особенности древнерусской поэтики и ритма. Так, филологический талант Г.П. Павского распространился и на древнерусский памятник письменности XII в.
В личной переписке Г.П. Павского с родными, проживавшими в селе Павский погост Петербургской губернии (ныне – село Павы Порховского района Псковской области), раскрываются теплые семейные взаимоотношения с отцом и братьями. Оказавшись в столице, Герасим Петрович стремился удовлетворить различные просьбы родственников, преимущественно материального характера, проявляя заботу о престарелых родителях, братьях, сестрах, племянниках.
Особого внимания заслуживает составленная Павским молитва на русском языке, вероятно, для своей царской воспитанницы – младшей дочери Николая I великой княгини Александры Николаевны (1825–1844). Как учитель Закона Божия Адини (как в детстве звали великую княгиню), Герасим Петрович с семи лет приучил ее к благочестию и чтению. Cудьба великой княгини оказалась трагична: через семь месяцев после замужества за принцем Фридрихом Вильгельмом Гессен-Кассельским она скончалась от туберкулеза в возрасте 19 лет. Не выжил и преждевременно рожденный ею младенец. Листок с молитвой был обнаружен в архиве Г.П. Павского и атрибутирован как написанный им: «Эта молитва написана рукою прот. Г.П. Павского и, вероятно, для дочери им же составлена». 17 апреля 1884 г. профессор гомилетики СПбДА Николай Иванович Барсов (1839–1903), также разбиравший архив покойного протоиерея, на этом листке добавил «Я, cо своей стороны, думаю, что эта молитва написана для Ея Императорского Величества Великой Княгини Александры Николаевны» (17 апреля 1884 г.). На обороте листа содержится приписка археографа Павла Ивановича Савваитова (1815–1895): «Найдена мною между различными бумагами Г.П. Павского». Приведем и сам текст молитвы: «Господи Иисусе Христе! Ты с любовию приемлешь детей, приходящих к Тебе. Cе пред Тобою сердце мое. Изгладь из него все нечистое и вложи в него охоту слушать и исполнять святой закон Твой, чтоб я возрастала ко славе Имени Твоего и к радости родителей моих»4.
Для царской дочери или собственных двух дочерей (Надежды и Любови) предназначалась эта молитва Г.П. Павского – остается неизвестным. Однако простота и ясность детской молитвы, написанной Г.П. Павским, – свидетельство его несомненного педагогического таланта.
С точки зрения ретроспективного анализа в «либеральные» годы Александра II стремление Н.И. Барсова подчеркнуть заслуги Г.П. Павского как воспитателя царских детей и самого государя-императора было созвучно стремлению создать научное богословие через внедрение сравнительно-исторического метода в библейское богословие (Малкина, 2025 а) в рамках реформ духовных академий (1864; 1881). Языком отечественного богословия стал не церковнославянский, а быстро развивавшийся русский.
После 1841 г. Герасим Петрович продолжал научную деятельность в области языкознания, cтав автором двух рецензий на «Практическую русскую грамматику» (1834) Н.И. Греча: «Суждения о Греческой философической пространной грамматике», «Примечания на вновь составленную грамматику русского языка», а также «Записок о русском словаре».
В 1841/42 гг. вышла его главная работа «Филологические наблюдения над составом русского языка» (в 3 томах), а в 1850 г. – осуществлено ее переиздание с дополнением (в 4 томах), за которую автор получил полную Демидовскую премию и звание академика Императорской академии наук.
«Историзм» Г.П. Павского коснулся и трудов по русистике. Среди «новшеств» – описание категории вида русского глагола и сравнительный анализ русской корневой глагольной системы. Несмотря на попытку сравнения ее с парадигмой семитских языков, не верифицированную впоследствии, cравнения с санскритом и европейскими (немецким, древнегреческим, латинским, французским) языками оказались верными.
Подготовленная Г.П. Павским в конце жизни двухтомная рукопись «Материалы для объяснения русских коренных слов посредством иноплеменных» оказалась первой попыткой создания русского этимологического словаря, но ее публикация так и не состоялась в связи со смертью автора. В 1880 г. она была передана Н.И. Барсовым на хранение в Академию наук1.
Среди принципиальных «новшеств» Г.П. Павского в области русской грамматики следует отметить: отказ от «схоластической» модели европейской грамматики в пользу эмпирического описания русского языка; переход от «донаучного» к «научному» этапу развития русского языкознания; широкий энциклопедизм и применение сравнительного метода на объемном материале (20 языков 3 языковых семей).
Метод Г.П. Павского оказался близок к «корнесловию» А.С. Шишкова, а понимание фонетической системы основывалось на ошибочной гипотезе о «придыхательном характере» «ъ» и «ь» в праславянском языке, повлиявших на все фонетические процессы древнерусского языка, включая палатализацию заднеязычных (г, к, х + ь = ж, ч, ш) и изменения групп согласных (ск, ст + ь = щ). Происхождение слов он объяснял через промежуточные формы аффиксов.
Минимальной значимой частью слова у Г.П. Павского была буква. Морфология глагола («класс глаголов») классифицировалась по отдельным «породам» (термин – калька из древнееврейской грамматики) в зависимости от вида и способа протекания действия. Обращение Г.П. Павского к синхроническому изучению морфологии русского глагола заложило основу для формального направления в русском языкознании (его развитием занимались далее К.С. Аксаков, Н.П. Некрасов, Ф.Ф. Фортунатов).
В 1947 г. важность его теоретических трудов по русистике отмечал академик В.В. Виноградов. В частности, он подчеркивал вклад Г.П. Павского как первого русиста, верно подметившего связь существительных общего рода на -а с категорией лица и их яркую экспрессивную окраску: «Один вид с унизительными приняли имена властителей и лиц почтенных, как-то: воевода, владыка, староста, старейшина, вельможа, судья, вития, предтеча... и др.»2 и создателя учения о видах русского глагола, направленного против ломоносовско-востоковской системы времен, оказавшего решающее значение на последующее развитие русской грамматики (Виноградов, 1986: 440–441). Вкладом Г.П. Павского в русистику также стало тонкое описание техники видового словообразования (суффиксального и префиксального), задавшего направление для новой теории видов К.С. Аксакова («О русских глаголах»).
Заключение . Рассмотренные нами новые архивные материалы раскрывают отношение Г.П. Павского к русскому языку как важнейшему инструменту развития богословской мысли: им составлена молитва на русском языке.
Г.П. Павский использовал и развивал в своих библейско-богословских (ветхозаветных) и литературных («Слово о полку Игореве») переводах русский язык, находившийся в стадии формирования в первой половине XIX в.
В трудах по русистике раскрылся талант ученого как патриота Отечества, продолжившего филологические занятия, несмотря на отставку из СПбДА.
Его значительный вклад в становление отечественного языкознания (учебники грамматики древнееврейского и русского языков) послужил основой для становления отечественной науки во второй половине XIX в., а личностный фактор до сих пор вызывает уважение и может служить наглядным примером беззаветной преданности Отечеству и высоким идеалам, что не теряет актуальности и в наше время.