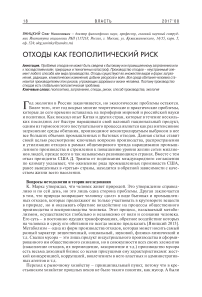Отходы как геополитический риск
Бесплатный доступ
Проблема отходов не может быть сведена к бытовому или промышленному загрязнению или к последствиям войн, природных и техногенных катастроф. Производство отходов - неустранимый элемент любого способа или вида производства. Отходы существуют во множестве видов и форм: загрязнения, радиации, климатических изменений, добычи ресурсов и войн. Вся среда обитания человека становится производителем этих рисков, угрожающих здоровью и жизни человека. Поэтому производство отходов есть глобальная геополитическая проблема.
Геополитика, загрязнение, отходы, риски, способ производства, экология
Короткий адрес: https://sciup.org/170168882
IDR: 170168882
Текст научной статьи Отходы как геополитический риск
Г од экологии в России заканчивается, но экологические проблемы остаются.
Более того, этот год вскрыл многие теоретические и практические проблемы, которые до сего времени оставались на периферии мировой и российской науки и политики. Как показал опыт Китая и других стран, которые в течение нескольких последних лет быстро наращивали свой валовый национальный продукт, одним из тормозов этого поступательного процесса является как раз интенсивное загрязнение среды обитания, производимое неконтролируемым выбросом в нее все больших объемов промышленных и бытовых отходов. Данная статья ставит своей целью рассмотрение ключевых вопросов производства, распространения и утилизации отходов в рамках общемирового тренда наращивания промышленного производства и стремления к повышению уровня жизни сотен миллионов людей, прежде всего в так называемых развивающихся странах. Вместе с тем отказ президента США Д. Трампа от подписания международного соглашения по климату указывает, что оживление ряда промышленных производств США, ранее выведенных в «третьи» страны, находится в обратной зависимости c качеством жизни всего населения.
Вопросы методологии и теории исследования
К. Маркс утверждал, что человек живет природой. Это утверждение справедливо и по сей день, но это лишь одна сторона проблемы. Другая заключается в том, что природа возвращает человеку «долг» в виде бытовых и промышленных отходов, которые продолжают не только участвовать в круговороте веществ в природе, но и оказывать обратное воздействие на процессы общественного производства и воспроизводства человека. Этот процесс, называемый метаболизмом, осуществляется глобально и независимо от воли и сознания человека. Его суть – в постоянно идущих трансформациях, обратное воздействие которых на человека и среду его обитания не всегда можно предсказать [Яницкий 2013]. Метаболизм – одна из форм производства отходов, которая может носить самый разный характер: вещественный, социальный, звуковой, физико-химический и т.д. Свалки мусора – это лишь продукт индустриального производства и сформированного им общественного сознания, но в совокупности всех своих элементов (накопление отходов, их перемещение, захоронение и т.д.) производство мусора есть весьма доходный бизнес со всеми присущими ему характеристиками: жесткой конкуренцией, коррупцией, вовлечением в него властных и административных агентов и т.д.
Переход к рыночному хозяйству – принципиальный пункт, потому что в крестьянском хозяйстве прошлых веков не было такого понятия, как мусор. А были отходы крестьянского хозяйства, которые им же в значительной массе и утилизировались, иногда на все 100%. Градостроители, как и другие современные технократы, никогда не думают об отходах как о неотъемлемой части любого общественного рыночного производства. Они исходят из того, что всегда найдется «добрый человек», который мусор вывезет со стройки и где-то там захоронит. А если ресторатор в погоне за прибылью разрешает своим посетителям шуметь и запускать музыку на предельную громкость, то это такой же токсин, только социально-психологический. Поэтому сегодня изучение глобальных метаболических процессов силами междисциплинарных коллективов становится одним из важнейших направлений глобальных геополитических исследований [Social Ecology... 2016].
К сожалению, 90% городского населения за исключением тех, кто живет рядом с мусорными полигонами, не задумываются о том вреде, которые наносят им и всей окружающей среде эти гигантские производители отходов. Да, мусорный полигон – это не только свалка или захоронение отходов, это гигантский механизм, производящий прибыль и одновременно приносящий вред всему живому. Это именно тот вид (способ) производства, посредством которого его владельцы получают миллионные барыши! В него в той или иной мере могут быть вовлечены все уровни административной власти, службы надзора, силовики и т.д. И при этом люди, занимающиеся мусорным бизнесом, ничего не боятся – ведь все санитарно-гигиенические нормы вывоза и захоронения мусора соблюдаются. Отследить, что именно вывозят ежедневно на свалки сотни мусоровозов – бытовой или строительный мусор, практически невозможно!
Так что вывезти мусор на свалку и где-то его захоронить – это не решение проблемы охраны окружающей среды. Свалка – это живой организм, механизмы производства которым вредных и токсичных веществ еще как следует не изучены. Но любая свалка не только производит токсины, она еще их и распространяет. Животные, грызуны, бомжи, равно как и ветер, дождь и почвенные воды разносят эти токсины на большие расстояния. И в ходе подобного движения природных процессов метаболизм токсинов продолжается. Так что сводить экологическую проблему к уборке территории никак нельзя – это только обнаружение проблемы, ее первоначальная «инвентаризация».
Напомню еще раз, что радиоактивные отходы, произведенные в результате аварий на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме-1, еще не все утеряли свою вредоносную активность. И как бы местные власти и сами жители ни старались определить, где еще остались более или менее безопасные места, круговорот веществ в природе продолжается, вовлекая в себя все, что вольно или невольно произвел человек. А ведь с изменением климата направление и сила этих токсичных потоков могут измениться. Не меньшую проблему представляет и утилизация отходов. Мало того что этот процесс требует массы ручного труда для первичной сортировки отходов, современные технологии пока не могут сделать этот процесс утилизации абсолютно безопасным. Все равно какую-то часть отходов придется где-то захоронить. А это всегда уже риск, только отложенный.
Распространение риска загрязнения во времени и пространстве
В одних случаях это именно отложенный и «долгоиграющий» риск, когда процесс внутренней переработки отходов на мусорных полигонах постепенно порождает все новые и новые токсины. Но кумулятивный эффект этого процесса может проявиться через годы и даже десятилетия. В других случаях человек самостоятельно превращает некоторый природный продукт в «полезный», как ему кажется, в продукт для дальнейшего использования. Я имею в виду перио- дически случающиеся «палы», т.е. поджоги сухой травы, которые оборачиваются гибелью людей, скота и имущества. В третьих случаях кумулятивный эффект трудно предсказуем. Например, сегодня околоземное космическое пространство уже настолько замусорено элементами космических аппаратов (например, спутников, отработавших свой срок), что запускать новые спутники на околоземную орбиту становится опасно. Замечу, что скорости вращения отдельных частиц мусора в космическом пространстве столь высоки, что их элемент размером всего в несколько миллиметров может сделать серьезную пробоину в теле космической станции или просто сбить очередной спутник с орбиты.
В СМИ циркулируют данные, согласно которым на территории РФ скопилось более 100 млрд т отходов. В частности, предполагается, что процесс реновации только в Москве (снос старых пятиэтажек, подготовка территории под новое строительство, ее рекультивация и т.п.) может произвести 56–60 млн т мусора1. И это подсчеты только по их весу, но никак не прогноз их суммарного вреда для жизнедеятельности столицы и страны в целом. Учитывались ли эти объемы мусора при разработке планов реновации, неизвестно. Твердо можно утверждать лишь одно: переход страны и мира в целом на рельсы общества потребления наносит двойной вред: он резко и неуклонно усугубляет расхищение природы (древесины, воды, нефтепродуктов) и увеличивает территории, непригодные для жизни. Но есть и более общая проблема.
Мир и война – понятия относительные
В течение многих веков жизнь большинства обществ в общественном сознании и политической практике четко делилась на мирную и военную. Как ни странно, такое разделение было более всего присуще исторической науке, особенно в школьных учебниках. В практике господствовала максима: «Хочешь мира – готовься к войне». Сегодня с развитием информационных способов ведения войны эти состояния становятся практически неразличимыми. Столь распространенное сегодня в мировой политике понятие «гибридная война» лишь зафиксировало относительность терминов «мир» и «война». Соответственно, само понятие «отходы» перестало связываться с процессами промышленного производства или добычей ресурсов и трансформировалось во всеобщий признак любой человеческой деятельности и даже не зависящих от него природных бедствий и катастроф.
В этом смысле вред, наносимый человечеству «мирным» производством загрязнений, ничем качественно не отличается от вреда, наносимого военными действиями, или от потерь вследствие природных аварий и техногенных катастроф. Вот пример из российской практики. По сообщениям СМИ, назревает «мусорный конфликт» между столицей и Московской областью. Власти последней, опасаясь дальнейшего ухудшения социальной и экологической обстановки в области, попросили столичные власти везти московские отходы куда-нибудь подальше. Но это – не решение проблемы, а лишь ее расползание по еще большей территории, не говоря уже об экономических и других потерях, которые возникнут в более удаленных от Москвы областях, например в Калужской. А тут еще обнаружилась новая напасть. Речь идет о резком ухудшении качества питьевой воды в Смоленской и некоторых других областях страны. Причем ухудшение, угрожающее ростом онкологических заболеваний. Откуда? Очень просто – старая, местами саморазрушающаяся среда городов и их коммунальных инфраструктур. Ветхость как риск – это естественный результат «усталости» любых предметов и конструкций, созданных человеком. Есть и другие формы отложенного и скрытого от глаз риска. Речь идет о «долгом эхе войны» в виде неразорвавшихся снарядов и бомб, выносимых на поверхность дождевыми или селевыми потоками, психических или онкологических заболеваний после ударов бомб с наконечниками из обедненного урана, массовых потоков беженцев и вынужденных переселенцев и т.д. Несомненно, что геополитика в данной области должна строиться на доверии [Карпова 2014]. Но политика силы наших оппонентов строится на прямо противоположных принципах: внезапном ударе, открытых угрозах, санкциях и т.п. И использование отходов для нанесения неожиданного вреда вероятному противнику здесь не исключение. Так что реальная геополитика зиждется всегда на диалектической паре «доверие – недоверие».
«Самоторможение» населения планеты?
Не будем трогать Мальтуса, обратимся к новейшим концепциям такого «самоторможения». К. Шваб и его последователи утверждают, что четвертая промышленная революция приведет к резкому сокращению рынка труда. И этот процесс уже действительно идет в промышленно развитых странах: робототехника вытесняет человека. Где же человек сможет зарабатывать себе на жизнь? А средства на учебу и лечение? На эти вопросы теоретики этой революции не дают ответа. Но его можно вычислить: требуется сокращение рождаемости, возврат к архаическим (не товарным) способам производства средств жизни, однополые браки, стерилизация все большей части населения беднейших стран и т.д., и т.п. Тогда безработных можно будет взять на содержание. Не случайно более 15 лет назад З. Бауман ввел понятие «мусорных людей» ( wasted people ) [Bauman 2004].
Но самый дешевый способ сокращения народонаселения планеты, и одновременно самый прибыльный для транснационального капитала, это война во всех ее формах и видах. Идея затяжной войны с целью взаимного ослабления Советского Союза и нацистской Германии открыто высказывалась лидерами Англии и США еще в начале 1940-х гг. Рассекреченные сегодня архивы некоторых ведомств США позволяют утверждать, что американские банкиры и промышленники активно способствовали наращиванию военного потенциала нацистской Германии (и заработали еще больше на послевоенном восстановлении промышленного потенциала ФРГ). Если во времена освоения европейцами Американского континента или полуострова Индостан они просто грабили местное население, то в ХХ, и особенно в XXI в., стратегия войны стала более изощренной, «гибридной». Экономическое давление совмещается с политическим давлением и подкупом, разжиганием этноконфессиональных конфликтов и локальных войн, экспортом «цветных революций» и т.д. Резон очень простой: ослабление или полное разрушение сложившегося социального порядка и, как результат, облегчение доступа к новым источникам сырья. В этой «гибридной войне» массмедиа играют все большую роль, дезориентируя местное население и навязывая ему ложные представления о реальных интересантах «гибридных войн». Сегодня в мире идет борьба уже не между государствами и их коалициями. «В условиях глобализации, стирания госграниц и подчинения национальных интересов глобальным» основой современной военной стратегии является регион. Например, можно назвать такие военно-стратегические проекты, как Большая Европа, Большой Средний Восток и т.д. Можно добавить, что уже с начала нулевых годов существует и проект Большое Черное море. Вот именно поэтому оно и названо «глобальным» [Грачева 2016: 3]. В условиях глобальной экспансии «народ отчуждается от войны». Как показала серия «цветных революций» в Европе, Азии и Африке, посредством финансирования оппозиции, создания протестных движений и массовых акций насилия население дезориентируется, его потенциал сопротивления резко ослабляется. Для дестабилиза- ции социального порядка и подрывной работы используются не только СМИ, но и наемники, подпольные или повстанческие силы или оппозиция. Итак, глобализация как всеобщий проект несовместима с национальными интересами и утверждается через их уничтожение. То есть, глобализация есть, по мнению западных стратегов и аналитиков, ключевая геополитическая доктрина. Я не призываю всех гуманитариев стать геополитиками, но растущая зависимость гуманитарных наук от геополитической практики очевидна.
Выводы
В современной концепции рыночного капиталистического производства есть принципиальный недостаток, который мировое сообщество начало осознавать лишь в самое последнее время. И в теории рыночного механизма, и в практике общественной жизни их последняя фаза – утилизация отходов – фактически была просто отсечена. В течение многих веков полагали, что для этого существует необъятная природа, которая сама все сделает, т.е. утилизирует. Что всегда есть «где-то там», где можно захоронить все новую порцию отходов человеческой жизнедеятельности. Но вот это «где-то там» превратилось во всеохватывающее и всепроникающее «везде» в форме глобального загрязнения всех сред обитания человека. Об этом еще почти 30 лет назад предупреждал У. Бек – я имею в виду его концепцию бумеранга [Beck 1992].
В глобальную эпоху индустриализма-урбанизма непризнание этого факта – существенный пробел в теории рыночного механизма, потому что в современную химико-технологическую эпоху природа способна утилизировать лишь малую часть производимых человеком отходов; большую часть она возвращает человеку в виде загрязнения и токсинов, рассеиваемых во всех средах его обитания. Характерно, однако, что сегодня учет процессов глобального загрязнения ведется главным образом по конечному результату и агрегированным методом (по странам и регионам). Этот учет не направлен на устранение самого механизма, порождающего загрязнение среды обитания, – будь то отдельные сферы производства, города и их сфера потребления, нефтегазовая инфраструктура или зоны множащихся вооруженных конфликтов. Так что, с моей точки зрения, наука должна заниматься не последствиями данного способа производства, а коренными причинами, лежащими в его основе. И главной из них, помимо самой сути рыночного механизма, является модель потребительского общества, в котором «упаковка» – будь то очередная мода или индустрия косметики – побеждает сущность, т.е. то, что под ней находится. Возразят: вы что, хотите, чтобы, как в советские времена, шоколадные конфеты продавались на вес? Отвечу: а вы хотите, чтобы ваши дети и внуки умирали от рака или гибли в ресурсных войнах? Чем быстрее среда обитания превращается из естественной в искусственную (или, как в случае военных действий, в «мертвую»), тем интенсивнее идут процессы загрязнения и разрушения этой среды.
Но даже в мирное время, чтобы выжить в этой искусственной среде, человек должен создавать разнообразные средства защиты, производить воду, продукты питания и другие жизненно необходимые человеку средства существования, на что требуются новые ресурсы, дополнительная энергия, новые виды производства и т.д. Образуется замкнутый круг, о чем более 40 лет назад предупреждал американский экономист Б. Коммонер, который говорил: «Все связано со всем, и все куда-то попадает. Ничто не дается даром».
В современную эпоху проблема производства отходов не может быть сведена к бытовому или промышленному загрязнению или только к последствиям войн, природных и техногенных катастроф. Производство отходов – неустранимый элемент любого способа или вида производства. Отходы существуют во множе- стве видов и форм: загрязнения, радиации, климатических изменений, добычи ресурсов и войн. Вся среда обитания человека становится производителем этих рисков, угрожающих здоровью и жизни человека. Поэтому сегодня производство отходов есть глобальная геополитическая проблема.
Список литературы Отходы как геополитический риск
- Грачева Т. 2016. Глобальное Черное море. В Вашингтоне считают Украину и Сирию театрами одной войны. -Военно-промышленный курьер. № 38(653)
- Карпова А. 2014. Веская сила (solid power) России в новом мировом порядке. -Власть. № 10. С. 24-33
- Яницкий О.Н. 2013. Метаболическая концепция современного города. -Социологическая наука и социальная практика № 3. С. 16-32
- Bauman Z. 2004. Wasted Lives. Modernity and Its Outcasts. Cambridge, UK: Polity Press. 140 p
- Beck U. 1992. Risk Society. Toward a New Modernity. London: SAGE. 260 p
- Social Ecology: Society-Nature Relations across Time and Space (ed. by H. Haberl, M. Fisher-Kowalski, F. Krausmann, V. Winiwater). 2016. Springer. 610 p. URL: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-33326-7