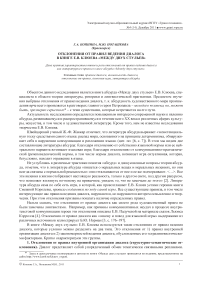Отклонения от правил ведения диалога в книге Е.В. Клюева «Между двух стульев»
Автор: Копнина Галина Анатольевна, Поташкова Мария Юрьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Выразительные средства в дискурсах разных типов
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Дана краткая характеристика типов и роли отклонений от правил ведения диалога как литературного приема в книге абсурда «Между двух стульев».
Правила диалога, аномальность диалога, отклонение от правил, языковая игра, литература абсурда
Короткий адрес: https://sciup.org/14821685
IDR: 14821685
Текст научной статьи Отклонения от правил ведения диалога в книге Е.В. Клюева «Между двух стульев»
Актуальность исследования определяется повышенным интересом современной науки к явлению абсурда, развивавшемуся и распространявшемуся в течение всего ХХ века в различных сферах культуры, искусства, в том числе в художественной литературе. Кроме того, нам не известны исследования творчества Е.В. Клюева.
Швейцарский ученый Ж.-Ф. Жаккар отмечает, что литература абсурда выражает «экзистенциальную тоску средствами самого языка: распад мира, основанного на принципе детерминизма, обнаруживает себя в нарушении коммуникации и разложении языка» (цит. по: [6, с. 7]). В этом мы видим две составляющие литературы абсурда: благодаря отклонению от собственно языковой нормы или ее нейтрального варианта возникает языковая игра; благодаря отклонению от коммуникативно-прагматической (речеповеденческой) нормы, в том числе нормы диалога, возникает игра ситуативная, которая, безусловно, находит отражение в языке.
Не углубляясь в различные трактовки понятия «абсурд» и дискуссионные вопросы теории абсурда, отметим, что в литературе абсурда «пишется о нереальных вещах и нереальных явлениях, но они всегда связаны с нормальной реальностью: они отталкиваются от нее и ее же подчеркивают. <…>. Все эти явления в жизни отображают настоящую реальность, только в другом свете, под другим ракурсом, что позволяет взглянуть по-новому на привычное, увидеть то, что не замечали до этого» [2]. Литература абсурда сама по себе есть игра, в которой, как провозглашает Е.В. Клюев устами героини книги Смежной Королевы, правила создаются по ходу самой игры . Все существующие правила, в том числе интересующие нас правила ведения диалога, нарушаются, но нарушаются автором осмысленно и творчески. При этом отклонения призваны показать наличие определенных правил.
Нельзя сказать, что отклонения от правил диалога как своего рода художественный прием не были замечены лингвистами. Например, как причины коммуникативных неудач в процессе внутритекстовой коммуникации героев эти отклонения описаны Е.В. Падучевой на материале сказок Льюиса Кэрролла [4]. Отклонения от правил диалога как «основу и повод для языковой игры» выдержками из различных источников иллюстрирует Б.Ю. Норман [3, с. 176–197].
В книге «Между двух стульев» Е.В. Клюева используются такие отклонения от правил ведения диалога, которые условно можно разделить на два типа. Это отклонения от 1) правил внутренней организации диалога и 2) закономерностей ведения диалога, обусловленных его эстралингвистически-ми факторами. Кратко охарактеризуем эти группы.
1. Отклонения от правил внутренней организации диалога (структурно-семантические отклонения). Диалог представляет собой упорядоченный обмен тематически связанными репликами.
Это значит, что реплики его участники произносят по очереди (происходит смена речевых ролей говорящего и слушающего) с учетом реакции одного участника на «ходы» другого, образуя диалогическое единство как основную единицу диалога. Ситуации, когда собеседник берет на себя «право рассказчика» (не соблюдает определенные нормы продолжительности реплики), не учитывая реакции участника диалога, являются аномальными, а если он иначе трактует слова собеседника и ему же приписывает свои слова, ситуация оказывается аномальной вдвойне. Приведем пример:
Хватит с меня этого дурацкого маскарада! – взревел Петропавел.
– Ты не любишь маскарада? – казалось, собеседник был потрясен. – Как же можно не любить маскарада!.. Маскарад! Это самое прекрасное, что есть в мире. «Маска, кто Вы?» – «Угадайте сами!» …Каждый выдает себя за кого хочет, выбирает себе любую судьбу: скучный университетский профессор превращается в Казанову, самый беспутный гуляка – в монашка, красавица – в старуху-горбунью, дурнушка – в принцессу бала… Все смещено, смешано – шум, суматоха, неразбериха! Разум бездействует: для него нет опор в этом сумбуре. Мудрое сердце сбито с толку – оно гадает, ошибается, не узнает, оно на каждом шагу разбивается вдребезги – и кое-как склеенное, снова готово обмануться, принять желаемое за действительное, действительное – за желаемое, припасть к первому встречному – разговориться, выболтать тайну, облегчить душу хозяину своему. О, это царство видимостей, в котором легкая греза реальней действительности! Кто говорил с тобой в синем плаще звездочета? – Не знаю, неважно… звездочет! <…>
…На мгновение в глазах Пластилина Мира мелькнули слезы и тут же высохли. С неожиданно беспечной улыбкой взглянул он на Петропавла:
– Как хорошо ты говорил о маскараде! Никогда не поверю, что ты не любишь его.
Петропавел вздрогнул и пришел в себя.
– По-моему, это ты говорил о маскараде...
«В некоторых случаях диалогическое единство может существовать также за счет реплик, обнаруживающих реакцию не на предшествующую реплику собеседника, а на общую ситуацию речи, когда участник диалога задает свой встречный вопрос…» [5, с. 62], но смысловое единство при этом должно сохраняться.
В следующем диалоге необоснованное обвинение Что ты непрестанно лезешь в мою личную жизнь? нарушает «правило детерминизма», требующее установления причинно-следственного отношения внутри диалога [1, с. 128]:
Разговаривать с грубияном-старичком дальше не имело смысла – и Петропавел решительно двинулся вперед. Лес густел медленно и незаметно, как кисель. Петропавел поднял голову на треск сучьев: старичок, оказывается, крался за ним.
– Вы все еще тут? – холодно спросил он его.
– Что ты непрестанно лезешь в мою личную жизнь? – заорал старичок, а Петропавел от возмущения такой постановкой вопроса в сердцах пихнул ногой громадный дуб, который тут же повалился вбок, подминая под себя другие деревья.
Переднамиотклонение от правила последовательности как релевантности ответной реплики предыдущему высказыванию. Другой случай – когда реплика, казалось бы, адекватна, но не информативна (отклонения от категории информативности), что может быть также вызвано нарушением причинно-следственных отношений внутри диалога. Например, неинформативность речи Гнома Небесного вызвана как буквальным пониманием требования Петро-павла – Кто сказал «А», пусть скажет «Б» («буквализация» пословицы), – так и нарушением причинно-следственных отношений в его трактовке: из того, что сказали «А», не следует, что последующее «Б» общеизвестно (подмена понятия «само собой разумеется»):
– Кто сказал «А», пусть скажет «Б», – объяснился Петропавел коротко, по причине головной боли.
– <…> Или, может быть, тебе интересно то, что само собой разумеется?
Петропавел тер темя и не следил за разговором.
– За разговором следи , – посоветовал Гном Небесный. – Я начинаю излагать сведения, которые тебе, по-видимому, нужны. Значит, так. Русский алфавит состоит из 33 букв. Сначала идет буква А, непосредственно за ней следует Б, после которой идет В. Дальше сразу же – это уже четвертая буква – Г. Пятая буква – Д, потом Е и рядом с ней Е – такая же, как Е, только с двумя точками сверху, затем.. .
Неинформативные реплики в диалогах встречаются неоднократно, напр.:
– Стремлюсь, – сказал и в самом деле пытливый Петропавел.
– Ну и дурак. Тут такого стремления высоко никто не оценит.
– Тут… это где?
– Тут – это тебе не там.
Особый тип отклонений, очевидно, составляют отклонения от правила ясности реплики для адресата. Этому требованию не соответствует следующая речь Пластилина мира:
– Ну что ж … – начал он и сам же себе ответил: – Да ничего! Случилось то, чего не случалось, а если и случалось, то другое. Среди нас нашелся тот, кого не было среди нас, но оказалось, что был. Это, как говорится, и радостно, и грустно. Грустно потому, что его не было, а радостно потому, что оказалось, что был. Теперь у нас есть все основания сказать, что нет никаких оснований говорить, будто герои перевелись в наше время. Они, конечно, перевелись – и никто с этим не спорит, однако сегодня мы видим перед собой настоящего героя. Разумеется, в нем нет ничего от героя, но он герой, несмотря на это. То, что он герой, незаметно с первого взгляда. И со второго. И с третьего. Это вообще незаметно. Встретив его на улице, вы никогда не скажете, что он герой. Вы даже скажете, что никакой он не герой, что – напротив – он тупой и дрянной человечишко. Но он герой – и это сразу же бросается в глаза. Потому что главное в герое – скромность. Эта-то его скромность и бросается в глаза: она просто ослепляет вас, едва только вы завидите его. Он вызывающе скромен. Он скромен так, что производит впечатление наглого. Но это только крайнее проявление скромности. Стало быть, несмотря на то, что в нем нет ничего, в нем есть все, чтобы поцеловать Спящую Уродину и пробудить Ее от сна. Я мог бы еще многое добавить к сказанному, но добавить к сказанному нечего.
-
<…> Аплодировал и Петропавел, хоть и не понял почти ничего – разве только то, что ему, кажется, действительно придется целовать Спящую Уродину .
Многие диалоги, как и приведенный выше, в книге абсурда «Между двух стульев» пронизаны паралогическими отклонениями. Рассуждения героев строятся с использованием софизмов. Так, Петропавел признался, что не может представить нынешнего короля Франции лысым, т.к. во Франции сейчас вообще нет короля . На что Бон Жуан возражает, меняя в процессе рассуждения тезис «предполагать можно о том, чего нет» на тезис «предполагать можно о том, чего якобы нет»:
-
– Тем более! – горячо подхватил Бон Жуан. – Если его нет, как раз и допустимо предположить о нем все, что хочешь! Эта ситуация сильно напоминает хотя бы следующую: если у Вас нет денег, можно смело предполагать, что Ваши деньги сделаны из листьев лопуха, или из блинной муки, или из кафельных плиток. Денег все равно нет – так что любое предположение равноценно. Потому-то и несуществующего короля Франции одинаково правильно представлять себе лысым, заросшим волосами, стриженым под горшок: ни одна из версий не будет ошибочной. Это ведь самое милое дело – строить предположения о том, чего нет, или о том, чего не знаешь.
-
<…> – Впрочем я прибегнул к крайней мере , – признался Бон Жуан. – В разговоре с нормальными – я подчеркиваю, нормальными! – людьми достаточно бывает предварительно договориться: допустим, нет того, что есть.
-
2. Отклонения от правил ведения диалога, обусловленных его эстралингвистическими факторами. В норме в диалоге, который подразумевает сотрудничество на основе взаимной заинтересованности, реплики содержат «равноважную» для его участников информацию [3, с. 176]. На реализацию принципа кооперации (сотрудничества), который глубоко этичен по своей природе, направлено «правило предоставления партнеру возможности ответа (не перебивать)». Отклонение от этого правила, связанное с нарочито неверной трактовкой вопросительного по форме предложения Что все это значит? , и отсутствие заинтересованности (интенциональное отклонение) в общении иллюстрирует такой отрывок из диалога:
– Что все это значит?
– Азовское море? О, оно значит для меня многое…
– А для меня – ничего не значит , – отрезал Петропавел.
– Тебя и не спрашивают , – отрезал по отрезанному Воще Бессмертный. – Как бы там ни было, ты все равно не имеешь права вынимать мое Азовское море из моей системы представлений, помещать в твою и там понимать.
– Да я вообще не намерен его понимать!
– Твои намерения тут никого не интересуют.
– Тут каждого интересуют мои намерения . Осознай это – и все сразу станет на свои места.
В диалогах встречаем и логические противоречия: противоречие между словом и речевым действием (например, после длительного разговора с Петропавлом Бон Жуан заявляет, что с мужчинами он вообще никогда не разговаривает; в процессе похорон Петропавла Гуллипут утверждает в форме рито- рического вопроса, что никто у молодого человека жизнь не отнимает); противоречие между репликами одного героя (например, на вопрос Петропавла А тут кто еще живет кроме Вас? Пластилин мира отвечает: Да никого, я один, а на вопрос Зачем же тогда столько раз звонить? Если тут никто, кроме Вас, не живет, хватило бы и одного звонка говорит: А тут еще много жильцов, кроме меня).
Петропавел отвернулся, демонстрируя нежелание осознавать .
Неучет намерения собеседника, его состояния приводит к неадекватности реплики, связанной с отклонением от закона достаточного основания:
– Вы, простите за нескромный вопрос, какого пола?
– Скорее всего, женского, – с сомнением ответили сзади, окончательно сбив Петропавла с толку.
Последний диалог происходит в ситуации, когда Петропавел, практически лишившись одежды, оказывается в пикантном положении, сложность которого напрямую зависит от пола собеседника, по внешнему виду которого, однако, пол определить невозможно.
Реплики в диалоге, как и невербальное поведение, должны быть мотивированы ситуацией речи, чего не наблюдается в следующем случае:
Он сделал шаг назад и попытался даже произнести какие-нибудь извинения, но не успел, потому что ярко одетая девушка внезапно перестала обнимать и целовать возлюбленного и, прыжком переместившись к Петропавлу, принялась обнимать и целовать его. Объятия и поцелуи перемежались со словами:
– О любовь моя, я так долго ждала тебя! Я полюбила тебя сразу – сильно и страстно: это у меня впервые в жизни!
<…> В мгновение ока зацелованный весь, он почувствовал сильную слабость и с трудом выдохнул:
– Разве мы знакомы?
– Мы созданы друг для друга! – горячо воскликнула девушка и сопроводила восклицание объятием, похожим на членовредительство .
Диалог представляет собой «социально-речевое образование», ориентированное на другое лицо как конкретную социально-детерминированную личность со своим статусом и ролями (Н.И. Форма-новская). Ситуационно-ролевым отклонением является навязывание собеседнику той или иной роли (отклонение от «правила ролевой допустимости» [1, с. 130]), которое мы наблюдаем в таком диалоге Воще Бессмертного и Петропавла:
– <…> Сейчас я буду тебя учить. Урок первый…
– По какому предмету? – вмешался Петропавел в неестественный ход событий.
– Ни по какому. Это урок воще.
– Не бывает уроков вообще, бывают уроки по каким-нибудь предметам! – огрызнулся Петропа-вел: ему не понравилась сама идея.
– Слушай, кто тут учитель – ты или я? – сразу заорал хозяин.
– Этого никто не определял.
Воще Бессмертный извинился за упущение и определил:
– Учитель тут я, а не ты. Внимай моим словам .
Несоответствие поведенческой (в том числе речевой) реакции ситуации, требующей спасения жизни, наблюдаем у персонажа по имени Таинственный Остов, который в ответ на крик Спасите! просит не шуметь и пытается выяснить, что этот крик означает:
– Да не шуми ты! – цыкнули сверху. – Я и так прекрасно тебя слышу. А больше тут никого нет, так что нечего вопить… Но я хочу знать фактически, каково значение предложения «Спасите!». Ты говоришь, что оно и означает «Спасите!». Так это само собой разумеется. Твой ответ совершенно бессодержателен – и мне приходится усомниться в осмысленности твоего высказывания, а значит, и в твоих умственных способностях. Раскрой смысл предложения, ну? Что ты подразумеваешь?
<…> Всегда говорят одно, а подразумевают совсем другое. И этим твоим «Спасите!» тоже можно много чего подразуметь. Можно, конечно, и невинные вещи подразуметь – что-нибудь типа «Помогите мне… укажите путь, составьте компанию будем, дескать, вдвоем плыть к берегу, так оно легче…». Но ведь не исключено и другое: «Давайте-ка, мол, ко мне, мой дорогой, я тут в Вас вцеплюсь мертвой хваткой, отдохну, потом брошу Вас, чтобы Вы утонули, а сам, набравшись сил, бодро поплыву дальше!». Таким образом, – мне желательно знать, что именно ты подразумеваешь. На этом, между прочим, основано искусство подтекста .
Неуместное использование разъяснения смысла реплики-стимула Спасите! и иронического нравоучения можно считать отклонением жанровым.
Следующее отклонение – отклонение от «правила общей памяти», которое предусматривает, что участники диалога обладают неким общим информационным фоном относительно прошлого [1, с. 128]. Однако эти знания могут не совпадать, что приводит к аномальности диалога (возникает своего рода пресуппозиционное отклонение):
– Белое Безмозглое… – с ужасом повторил Петропавел.
– Да, это имя собственное. То есть мое собственное. Но не подумайте, что у меня нет мозгов: у меня мозгов полон рот! А имя… что ж, имя – только имя: от него не требуется каким-то образом представлять своего носителя… Асимметричный дуализм языкового знака.
– Что-о-о? – Петропавел во все глаза уставился на Белое Безмозглое. Оно зевнуло.
– Фердинанд де Соссюр .
Это заявление сразило Петропавла намертво. Он подождал объяснений, но не дождался .
Исследователи норм речевого поведения пишут о существовании правила тождества референции, заключающегося в том, чтобы собеседники представляли одну и ту же реальность, и чтобы слова, их означающие, относились бы к одному и тому же предмету, или означаемому (Там же, с. 128–129). Первая часть этого правила подразумевает учет картины мира собеседника, вторая связана с использованием языка, однозначным пониманием кода. Именно разным осмыслением слов и выражений обусловлено непонимание героями друг друга. Например, использованное Петропавлом выражение на пустом месте (строить предположения) в значении ‘безосновательно (размышлять, делать выводы)’ Бон Жуан трактует в прямом смысле:
– <…> Это ведь самое милое дело – строить предположения о том, чего нет, или о том, чего не знаешь.
– То есть на пустом месте! – язвительно уточнил Петропавел.
– А на каком еще можно? – изумился Бон Жуан. – Если место чем-то занято, его сначала нужно расчистить, а потом уже строить предположения.
<…> Скажем, у Вас нет головы, которая есть. Вот тут-то и начинается: если нет головы, то что есть? Значит, я мысленно отрываю Вам голову и ставлю на ее место… ну, чайник. Я ведь не мог бы поставить чайник на место головы, не оторвав головы, – в противном случае получится, что я просто поставил чайник Вам на голову, а это совсем другое. Понятно? .
Многообразны в книге «Между двух стульев» отклонения от принципа вежливости (этико-речевые отклонения), связанного с соблюдением этических норм, в соответствии с которыми не допускаются нетактичные замечания по отношению к собеседнику. Приведем пример:
– Кончаем кипеж… Вы не творческий человек – Вы нормальный упитанный середняк, который так же разбирается в смежности, как свинья в мокасинах. Мне крайне прискорбно, что Вы такое фуфло … – Она вынула из мешочка следующую карточку: – Здесь бубен. Нате, положите его на бубен и испытайте радость идиота , знающего, что такое бубен. – Она вздохнула. – Надо же так скоз-литься за какие-то десять минут! .
Отклонения от правил ведения диалога в произведении Е.В. Клюева нельзя назвать бессмысленными. Через восприятие диалогов с различного рода отклонениями читатель постигает возможности языка и игры с языком: он узнает о дуализме языкового знака (диалог между Петропавлом и Белым Безмозглым), о языке как хранителе истории и национальной культуры (диалог между Петропавлом и Таинственным Остовом), об ассоциативной связи слов (разговор главного героя с Эхом), о соотношении имени и понятия (диалог между Петропавлом и Слономоськой); получает удовольствие от узнавания трансформированного прецедентного имени или текста; постигает иносказательный смысл сказок и т.д. Читатель оказывается как бы сидящим на двух стульях: он погружается в нереальный мир, где «все происходит как угодно, но только не так, как полагается» [2], и в то же время понимает, что этот мир отображает настоящую реальность, в которой также не соблюдаются различного рода правила. Именно контраст между воображаемым и настоящим, выраженный при помощи разного рода отклонений и позволяющий разглядеть и лучше понять некоторые отрицательные явления мира, характерен для литературы абсурда (но не абсурда в литературе, т.к. далеко не всякое отклонение приводит к абсурду в тексте).
В книге Е.В. Клюева «Между двух стульев» представлена коммуникация разрушающаяся: герои нарушают любые правила ведения диалога. Однако – самое главное – разложение коммуникации по форме не приводит к ее разрушению по сути: в абсурдном мире герои достигают цели (в их диалогах это всегда создание нового способа мышления у обычного человека – Петропавла) именно благодаря отрицанию правил, так или иначе ограничивающих сознание главного героя. В воображаемом мире неэффективная коммуникация является наиболее продуктивной: то, что в реальном мире существует со знаком «минус», в литературе абсурда превращается в «плюс» – таковы правила этой игры.
Список литературы Отклонения от правил ведения диалога в книге Е.В. Клюева «Между двух стульев»
- Кискина М.В. Правила речевого поведения и образы языкового сознания//Актуальные проблемы психолингвистических исследований: сб. науч. тр. М.: Изд-во МГУ, 2006. С. 126-132
- Колоннезе Дж. Нонсенс как форма комизма. URL: http://ec-dejavu.ru/n/Nonsense.html (дата обращения 12.11.2011)
- Норман Б.Ю. Игра на гранях языка. М.: Флинта; Наука, 2006
- Падучева Е.В. Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла//Семиотика и информатика: сб. ст./ред. Т.Н. Лаппалайнен. М.: ВИНИТИ, 1982. Вып. 18. С. 76-119
- Русский язык и культура речи: учебник/под ред. проф. В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2001
- Токарев Д.В. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Самюэля Беккета. М.: Новое лит. обозрение, 2002