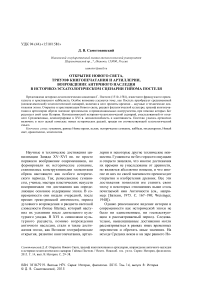Открытие нового света, триумф книгопечатания и артиллерии, возрождение античного наследия в историко-эсхатологическом сценарии Гийома Постеля
Автор: Самотовинский Дмитрий Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Представлена историко-эсхатологическая концепция Г. Постеля (1510-1581), известного французского ориенталиста и христианского каббалиста. Особое внимание уделяется тому, как Постель преобразует средневековый (неоиоахимитский) эсхатологический сценарий, включая в него приметы времени - научные и технические достижения эпохи. Открытие и христианизация Нового света, расцвет филологической культуры, триумф книгопечатания и артиллерии обрели значение предпосылок и провиденциальных инструментов, при помощи которых Бог реализует свой план Истории. Неоиоахимитский историко-эсхатологический сценарий, унаследованный от позднего Средневековья, демонстрировал в XVI в. жизнеспособность и адаптивность. Постелю удалось органично включить в него целый комплекс новых исторических реалий, придав им соответствующий эсхатологический смысл.
Гуманизм, раннее новое время, ислам, историческое сознание, каббала, милленаризм, новый свет, ориентализм, эсхатология
Короткий адрес: https://sciup.org/147219430
IDR: 147219430 | УДК: 94
Текст научной статьи Открытие нового света, триумф книгопечатания и артиллерии, возрождение античного наследия в историко-эсхатологическом сценарии Гийома Постеля
Научные и технические достижения цивилизации Запада XV–XVI вв. не просто поражали воображение современников, но формировали их историческое сознание, становились конструктивными элементами образа настоящего как особого исторического периода. Так, ренессансные гуманисты, ученые, мастера пластических искусств воспринимали эти достижения как определяющие основное содержание эпохи. В современности они видели очередной, после времен греко-римской античности, период духовного возрождения и расцвета светской словесности (bonae litterae), который наступил их усилиями после длительного культурного упадка. В XVI в. символами культурного расцвета, помимо возрождения античного наследия, стали и такие достижения эпохи, как Великие географические открытия, развитие книгопечатания, артил- лерии и некоторые другие технические новшества. Гуманисты не без гордости ощущали и открыто заявляли, что многие достижения их времени не унаследованы от древности, но являются абсолютно новыми, и что многие из них по своей значимости превосходят открытия и изобретения древних. Все эти достижения позволяли им ставить свою эпоху в некоторых отношениях выше столь почитаемой ими Античности (см., например: [Баткин, 1975. С. 167–190; Weisinger, 1948]).
Однако ренессансное видение истории и современности как исторической эпохи не было ни единственным, ни господствующим в рассматриваемый период. Следовательно, вышеназванные достижения могли рассматриваться в рамках иных временных перспектив и обретать иные значения. На исходе Средних веков и на заре раннего Но-
Самотовинский Д. В. Открытие Нового Света, триумф книгопечатания и артиллерии, возрождение античного наследия в историко-эсхатологическом сценарии Гийома Постеля // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 8: История. С. 29–38.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 8: История
вого времени большая часть христианского мира жила эсхатологическими представлениями, унаследованными от Средневековья. Более того, как показывает ряд исследований, своего апогея эсхатологические ожидания достигли именно в эту переходную и кризисную эпоху [Delumeau, 1980. P. 281; Barnes, 2003. P. 323–324], отмеченную, в то же время, триумфом печатного станка и гравюры, посредством которых апокалипсические образы тиражировались в невиданных ранее масштабах [Delumeau, 1980. P. 273–277]. Спектр эсхатологических сценариев, посредством которых христианский Запад структурировал свою временную перспективу, был крайне широк, но заключался между двумя предельными моделями. Первая модель предполагала скорое второе пришествие Христа и конец Истории, вторая – наступление последней исторической эпохи Царства Божьего на земле (миллена-ризм) 1.
Признаки грядущих эсхатологических перемен традиционно видели в упадке нравов, в конкретных социальных и политических катаклизмах, природных бедствиях и необычных небесных явлениях. Однако в XVI в. этот перечень экстраординарных событий пополнился новыми специфическими знамениями времени, связанными с научными и техническими достижениями эпохи. Один из наиболее ранних примеров этому – восприятие и осмысление Христофором Колумбом своего выдающегося открытия. Известно, что путешественник тесно контактировал с францисканцами, развивавшими идеи знаменитого средневекового миллена-риста Иоахима Флорского (ок. 1132–1202). Он верил, что совершенное им открытие пути в Азию через Атлантический океан знаменует собой наступление нового и последнего периода в истории человечества. Все народы будут обращены в истинную веру, и на всей земле будет учреждена единая христианская монархия. Роль монарха, который объединит мир, Колумб отводил своему покровителю Фердинанду Арагон- скому, которому будет в помощь «святая женщина» – Изабелла Кастильская. Мир пребудет в состоянии согласия около 150 лет, после чего наступит последний суд и конец Истории [Phelan, 1970. P. 19–23] 2.
Во Франции XVI в. наиболее интересную попытку наполнения средневекового эсхатологического сценария новым историческим содержанием предпринял Гийом Постель (Guillaume Postel, 1510–1581), известный христианский каббалист и ориенталист, биография которого достаточно хорошо исследована [Kuntz, 1981; Petry, 2004; Самото-винский, 2011]. Он родился в Нормандии в бедной крестьянской семье, в 8-летнем возрасте лишился родителей [Kuntz, 1981. P. 6– 7]. Тем не менее благодаря своей одаренности и силе характера смог заслужить репутацию образованнейшего человека своего времени, знатока восточных языков, а также нравов и обычаев мусульманского Востока, удостоился в 1538 г. чести стать профессором греческого, еврейского и арабского языков знаменитого Королевского коллежа в Париже [Ibid. P. 29]. Постелю дважды удалось посетить Ближний Восток. Первое путешествие в 1535–1537 гг. он совершил в составе посольства ко двору султана во главе с Жаном де Ла Форе. Отправка этого посольства в Стамбул была продиктована стремлением короля Франции Франциска I установить прочные торговые связи с Османской империей, но главное, заключить реальный военный союз с султаном Сулейманом против императора Карла V. Постель, не будучи ни дипломатом, ни переводчиком (турецкий язык был ему еще не знаком), собирал в этой поездке восточные манускрипты для королевской библиотеки в Фонтенбло. Второе путешествие в 1549–1551 гг. было совершено им частным образом, на средства венецианского печатника, издателя еврейских текстов Даниэля Бомберга [Kuntz, 1981. P. 24–25; McCabe, 2008. P. 39, 43, 50].
Интерес Постеля к Востоку и восточным языкам имел не чисто академический характер, и не определялся лишь практическими потребностями короны, проводившей поли- тику сближения с султаном, но был тесно связан с его милленаристскими чаяниями [McCabe, 2008. P. 16]. Как и Колумб, Постель находился под сильным влиянием средневекового неоиоахимизма, ожидал скорого религиозного и политического объединения мира. Не случайно он именовал себя «космополитом» (cosmopolite), членом единого тела грядущей мировой христианской монархии (это самоопределение впервые встречается на титульном листе сочинения «О государстве турок», изданном в 1560 г. [Postel, 1560a]).
Заметим, что в ту эпоху надежда на грядущую мировую гармонию как никогда ранее была далека от исторической реальности: западный христианский мир утратил конфессиональное единство и разобщался на глазах, погружаясь в религиозные войны, а турки-мусульмане успешно наступали. Однако чем более усугублялся распад христианского Запада, тем сильнее Постель верил в грядущий эсхатологический поворот. Как заметил один из исследователей его творчества Уильям Боусма, «благодаря апокалип-сизму, пессимизм Постеля обратился в оптимизм, и в самом упадке он видел предвестия возрождения» [Bouwsma, 1990. P. 219] 3.
В нашей статье мы рассмотрим малоизученный аспект эсхатологии Постеля, а именно: каким образом его историко-эсхатологии-ческая концепция, генетически связанная с позднесредневековым неоиоахимизмом, инкорпорировала в себя новые исторические реалии эпохи Возрождения и раннего Нового времени; каким образом старые ментальные схемы были задействованы для восприятия новых явлений. Этот вопрос, насколько мы знаем, не стал предметом специального изучения для исследователей творчества По-стеля, хотя отдельные замечания имеются [Kuntz, 1981. P. 12–13; Bouwsma, 1990. P. 219].
Постель осознавал свое время как зарю новой эры – эпохи Царства Божьего на земле, которая являлась последней из четырех и венчала собой мировую историю. В каждую из исторических эпох Бог все более совершенным образом преподавал роду человеческому свою истину. В первую эпоху –
«век Детства», или «Закона Природы», длившуюся от грехопадения до Моисея (1656 лет), истина была дана людям через врожденный «естественный закон». Во вторую эпоху – «век Юности», или «Писания», длившуюся от Моисея до первого пришествия Христа (1 503 года), – через Моисеев «Закон». В третью эпоху – «век Зрелости», или «Благодати», длившуюся с пришествия в мир Христа до недавнего времени (1 546 лет), – через Христов «Закон Благодати» [Postel, 1899. P. 73–74] 4.
Однако, полагал Постель, вопреки всем усилиям Бога, истина так и не восторжествовала среди людей в эти эпохи, которые по этой причине можно было назвать «несовершенными» и даже «нечестивыми» [Ibid. P. 68, 69, 73]. В настоящий же момент нарождалась новая и последняя эпоха – «век Старости», или «Восстановления всех вещей» [Ibid. P. 70] 5, торжества «Царства Божьего» на земле [Postel, 1553. P. 52]. Постель верил, что благой Создатель наградит праведных не только после окончания Истории, в вечности, но и на земле, в рамках Истории, а посему надлежит, «чтобы Грех и Дьявол и все, что было порождено ими… было разрушено благодаря лекарству спасения, чтобы во времена старости Церкви, которые наступили ныне после Детства Природы, после Юности Писания, после Зрелости Благодати, все вещи были примирены и возвращены на круги своя…», «…должно, чтобы произошло Восстановление всех вещей взамен Разрушения, чтобы все смогли в этой жизни (курсив наш. – Д. С. ) научиться познавать Бога, чего еще не достигнуто…» [Postel, 1899. P. 20, 21].
Иоахим Флорский делил историю на три эпохи – Отца, Сына и, наконец, Духа, которая грядет и будет означать установление царства Божьего на земле [McGinn, 1979. P. 133–134]. Постель не следует в данном случае за Иоахимом буквально. Его четырехчленная периодизация обнаруживает явное сходство с концепцией Августина, выделявшего в истории спасения три ступени (gradus): «до закона» (ante legem, от грехопадения до Моисея), «под законом» (sub lege, от Моисея до первого пришествия Христа) и «под благодатью» (sub gratia, от первого до второго пришествия Христа). Четвертое состояние человечества – «в мире» (in pace) – не историческая эпоха, а вечное блаженство праведных [Pereira, 2013. P. 96– 97]. Вслед за Августином эту концепцию разделяли такие авторитеты Средневековья, как Григорий Великий, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный [Darby, 2013. P. 24] и даже Фома Аквинский [Armitage, 2008. P. 268–269]. Кардинальное отличие историкоэсхатологической концепции Постеля состояло в том, что четвертое состояние человечества мыслилось им в милленаристском духе, как историческая эпоха и было достижимо «еще в этой жизни» [Postel, 1899. P. 21].
Согласно Постелю, находившемуся под сильным влиянием традиции каббалы 6, наступление этого последнего века было связано с приходом в мир женщины-Мессии (новой Евы). Именно ей было суждено Провидением завершить дело искупления и преобразования человеческой природы, начатое Христом (новым Адамом). Постель верил, согласно книге «Зоар», что мир являет собой единство мужского и женского начал. Душа человека, «малого мира», также состоит из двух элементов. Первый, «верхний» и отождествляемый с мужским началом, – animus (лат.), anime (фр.), второй, «нижний» и отождествляемый с женским началом, – anima (лат.), ame (фр.). Постель полагал, что Христос (новый Адам) «восстановил» не всю человеческую природу целиком, но лишь «верхнюю», «мужскую» ее часть. «Нижнюю» и «женскую» часть предназначено «восстановить» новой Еве (Шехине, согласно книге «Зоар»). Именно ее пришествие в мир означает полноту пре-
-
6 Интерес к каббалистической традиции, которую он считал одним из источников Божественного откровения, инструментом толкования Библии, возник у Постеля около 1544 г. во время пребывания в Италии. В Риме он начал изучать священные иудейские тексты под руководством Иоганна Видманштадта, который располагал обширной библиотекой. В Венеции Постель имел доступ к библиотеке печатника Даниэля Бомберга, которая содержала, в том числе, два главных текста каббалистической традиции – «Зоар» и «Бахир» [Petry, 2004. P. 38; Bouwsma, 1990. P. 218–232].
ображения человеческой природы [Petry, 2004. P. 39–40, 55–56; Kuntz, 1981. P. 103–106; Bouwsma, 1990. P. 216]. Люди, очищенные от порчи первородного греха божьей благодатью, с помощью разума познают Бога и спасутся. Именно в разуме Постель видел главный инструмент духовного преображения, спасения каждого отдельного человека и человечества в целом. Греховное поведение и отсутствие согласия в мире воспринимались им как проявления не столько злой воли, сколько невежества [Petry, 2004. P. 89].
В определенный момент жизни Постеля эти фантазии, казалось, начали воплощаться в жизнь. В 1547 г., непонятый французской короной, отвергнутый протестантами и иезуитами, он прибыл Венецию, где встретился с матерью Зуаной 7 (ок. 1500–1549 или 1550), основательницей и содержательницей приюта (Ospedaletto) Св. Иоанна и Павла. Эта «Венецианская Дева», как ее именовал Постель, ведшая аскетический образ жизни, посвятившая себя служению ближним, проникнутая неоиоахимитскими надеждами на всеобщее спасение и наступления новой эпохи духовного преображения и единения мира 8, произвела на него огромное впечатление 9. В ней он увидел самого Христа, явившегося в мир в женском обличье 10, ту самую новую Еву, Шехину из книги «Зоар» и «ангелического папу» неоиоахимитской традиции [Kuntz, 1981. P. 76–84; Martin, 1993. P. 118–119; Bouwsma, 1990. P. 215–216].
С того самого года своей встречи с Зуа-ной Постель начал отсчет нового и последнего периода в истории человеческого рода. Однако раскрыться этому периоду во всей своей полноте еще только предстояло: вскоре усилиями божественных посланников – «ангелического папы» 11 и короля
Франции 12 – иудеи, мусульмане, язычники (в том числе и Нового света) будут обращены в христианскую веру, и на всей земле будет учреждена единая христианская монархия, установлены мир и согласие. Это событие, полагал Постель, состоится в 1556 г. Позднее он перенес его дату на 1566 г. [Kuntz, 1981. P. 144]. Но и после 1566 г. надежда на скорый эсхатологический поворот в Истории не покидала его: в сочинении «Восточные истории», опубликованном в 1575 г., он, как и в предыдущих своих трудах, исходил из такого же сценария будущего.
Обосновывая право именно «галльских» королей и «галлов» на мировое господство, Постель указывал на их избранность и генеалогическое первенство: они являлись потомками Гомера, старшего сына Иафета, который, в свою очередь, был старшим сыном Ноя [Postel, 1551. P. XII–XIV]. Роль будущего мирового монарха он поочередно отводил Франциску I, Генриху II, Франциску II и Карлу IX [Petry, 2004. P. 54–55], роль же «ангелического папы», после смерти Зуаны, – самому себе. В 1552 г., будучи в Париже, Постель пережил, по его собственным словам, полное духовное преображение (immutation): дух Зуаны воплотился в нем [Kuntz, 1981. P. 105]. Основываясь на этом мистическом переживании, он провозгласил себя духовным первородным сыном новой Евы (Зуаны) и нового Адама (Христа) – новым Каином, которому суждено стать духовным объединителем мира – congregator mundi [Ibid. P. 106, 146]. Французский же король, которому предстояло стать мировым монархом, согласно этой логике, был новым Авелем. Новый Каин искупит грех первого Каина тем, что вернет новому Авелю (королю) полноту светской власти, узурпированную папством, чтобы в новой мировой монархии король обладал верховной светской властью, а папа – духовной [Petry, 2004. P. 60–61].
Этот средневековый, неоиоахимитский по своей сути, историко-эсхатологический сценарий наполняется у Постеля современным содержанием – новыми явлениями и событиями эпохи. Наиважнейшее место в этом сценарии Постель отводит открытию Нового света. Этот четвертый континент отождествлялся им с платоновской Атлантидой (Тимей. 21e–25d; Критий. 108e–121c) и легендарными «счастливыми и блаженными островами», а его население – с потомками Иафета [Postel, s. d. F. 8r, 41v.] 13. Открытие и христианизацию Нового света Постель напрямую связывал с наступлением четвертой и последней эпохи единства мира. Поэтому не случайно, полагал он, что «ни во времена Ассирии, ни Мидии, ни Греции, или Римской, так называемой, монархии не было в мире столь великого стремления, любопытства, отваги, искусства навигации, могущества, мастерства… для того, чтобы искать и открывать новые земли» [Postel, 1553. P. 51]. До сего дня «провидение не позволяло, чтобы весь мир был открыт». Вот почему ко времени первого пришествия Христа, в соответствии с провиденциальным планом, было открыто и могло быть обращено в истинную веру только «первое и верхнее полушарие» (т. е. Восточное полушарие, старый Свет) [Ibid. P. 52].
Для Постеля это пространственное ограничение было объяснимо с точки зрения его своеобразной теории спасения. Поскольку Христос во времена своего пришествия «восстановил» только «верхнюю», «мужскую» часть души (animus / anime), христианское учение должно было распространиться лишь на «верхнюю» часть мира, т. е. Восточное полушарие, Старый свет. Однако ныне, благодаря новой Еве (Зуане), «нижняя часть малого мира 14 была восстановлена, подобно верхней», а, следовательно, настало время, чтобы «и в верхней и в нижней частях большого мира, восстановить царство Божье» (et en la superieure et l’inferieure partie du grand monde, restituer le regne de Dieu). Не случайно, полагал Постель, в его время «Бог пожелал воздвигнуть людей», способных «открыть сказанную нижнюю и женскую часть [большого мира]» (Восточное полушарие, Новый свет), чтобы «приуготовить путь сказанным двум духовным братьям» [Postel, 1553. P. 52, 53], т. е. новому Авелю (французскому королю) и новому Каину («ан-гелическому папе», Постелю), агентам, через которых будет реализовано грядущее политическое и религиозное объединение мира.
Однако создание мировой христианской монархии было невозможным для Постеля без решения важной задачи – подчинения и христианизации иудеев и, главное, мусульман. Когда-то, во времена поздней Римской империи первенство, как в культурном отношении, так и в военном, принадлежало христианам. Христианская Империя, преувеличивал Постель, распространяла свою власть и религию на «все наше полушарие» (Восточное, Старый свет), превосходя все другие государства в «науках и учености, в военных делах и могуществе». Но Римская империя рухнула. Христиане утратили все свое превосходство, которое перешло через некоторое время к мусульманам – арабам и туркам [Postel, 1560б. P. 50–52; Postel, 1575. P. 69–70, 72–74].
Военное превосходство Османской империи было очевидным для христианского Запада XVI столетия. Более того, если еще во второй половине XV в. турок рассматривали преимущественно как необузданных, чуждых упорядоченной жизни «варваров», уничтоживших культурные сокровища Византии, и «неверных», то в XVI в. – как противника хорошо организованного, дисциплинированного и выносливого (Андреа Камбини, Джованни Менавино, Павел Йовий и др.) [Bisaha, 2011. P. 67–68, 135–136, 178]. Совершив два путешествия во владения «Великого Турка», Постель лично убедился в справедливости этих высоких оценок. Он высоко отзывался о турецком войске и воинах, благодаря которым султан обрел могущество, не уступающее римскому, а возможно, даже превосходящее его [Postel, 1560в. P. 39–44, 76–77].
Однако вскоре, полагал Постель, следует ожидать нового провиденциального поворота в Истории. Не случайно, что именно «среди латинских христиан» появилась артиллерия, которую Бог даровал им «для приведения к совершенству могущества» (pour accomplir la puissance) [Postel, 1560б. P. 54; 1575. P. 75], т. е. усиления собственной военной мощи. Постель верил, что в ближайшем будущем расколотый ныне христианский мир, вооруженный пушками, объе- динится, достигнув «совершенного согласия и единства» [Postel, 1560в. P. 88]. Баланс сил кардинальным образом изменится.
Мощь христианского мира должна быть достаточной, чтобы противостоять военной машине турок и сломить ее, однако Постель никогда не делал ставку на насильственное обращение «неверных». Учитывая строгость нравов в турецком обществе, благочестие турок, он заключал, что они даже «меньшие грешники перед Богом, чем христиане», ибо от Бога их отделяет более «невежество», чем сознательное отступничество [Ibid. P. 50]. Учение Магомета для Постеля было, конечно, «ересью», но меньшим злом по сравнению с язычеством, ибо призывало уверовать в единого Бога, творца мира, и содержало иные «истинные мнения», связанные с библейской основой ислама [Postel, 1560б. P. 45– 46]. Это позволяло верить в возможность того, что мусульмане могут быть обращены в христианскую веру путем просвещения и убеждения. Постель, несомненно, был воодушевлен идеями, которые в середине XV в. проповедовали Николай Кузанский и Хуан Сеговийский – наследники средневековой традиции, представленной Раймундом Лул-лием и Роджером Бэконом. Оба мыслителя считали, что в учении Магомета содержится зерно истины, и даже после падения Константинополя призывали к мирному обращению мусульман путем диалога и убеждения, не отрицая при этом необходимости вооруженного сопротивления. Подобную позицию позднее занимал и Эразм Роттердамский [Bisaha, 2011. P. 143–146, 174–175].
Предпосылки для грядущего просвещение мусульман, верил Постель, уже возникли: исламский мир на сегодняшний день утратили культурное превосходство: «ис-маилиты сегодня почти не имеют больше ни наук, ни дисциплин», зато в христианском мире наблюдаются расцвет филологической культуры и возрождение античного наследия: «Сегодня мы ясно видим, что благодаря некой внезапной перемене науки греческие, латинские и еврейские со всеми учениями, божественными и человеческими… менее, чем за пятьдесят лет, были освоены и прояснены». Более того, христианам было даровано книгопечатание как инструмент «для приведения в совершенство мудрости в мире» (pour consommer la sapience au monde) [Postel, 1560б. P. 53, 54; 1575. P. 74, 75]. «Бог пожелал, – резюмирует Постель, – чтобы военное дело, науки, книгопечатание поднялись до высшей степени превосходства [у латинских христиан], будучи приуготованы перед воскресением двух детей 15, одного [предназначенного] для власти сакральной, то есть папской 16, другого – для светской, то есть королевской 17, ради того, чтобы благодаря тем средствам они смогли вынудить весь мир к повиновению вечному закону и к истинному использованию разума» (contraindre tout le monde à l’obédience de l’éternelle loy et au vray usage de raison) [Postel, 1553. P. 50].
Таким образом, неоиоахимитский историко-эсхатологический сценарий, унаследованный от позднего Средневековья, демонстрировал в XVI в. поразительную жизнеспособность и адаптивность. Постелю удалось органично включить в него целый комплекс новых исторических реалий, придав им соответствующий эсхатологический смысл. Возрождение античного наследия, открытие и христианизация Нового света, триумф книгопечатания и артиллерии обрели значение провиденциальных инструментов, при помощи которых Бог реализует свой проект, и предпосылок будущих перемен. Историко-эсхатологическая концепция Постеля оказала решающее влияние на взгляды его последователя – Ги Лефевра де Ла Бодери (1541–1598), автора историкоэсхатологической поэмы «Галлиада».
THE MEANING OF THE DISCOVERY OF NEW WORLD, THE FLOURISHING OF PRINTING AND ARTILLERY, THE REVIVAL OF LEARNING IN THE HISTORICAL-ESCHATOLOGICAL
SCENARIO OF GUILLAUME POSTEL
Список литературы Открытие нового света, триумф книгопечатания и артиллерии, возрождение античного наследия в историко-эсхатологическом сценарии Гийома Постеля
- Баткин Л. М. К проблеме историзма в итальянской культуре эпохи Возрождения // История философии и вопросы культуры. М., 1975. С. 167-190.
- Самотовинский Д. В. Постель Гийом // Культура Возрождения: Энциклопедия: В 2 т. М., 2011. Т. 2, кн. 1. С. 623-626.
- Armitage M. Aquinas on the Divisions of the Ages Salvation History in the Summa // Nova et Vetera. 2008. Vol. 6. No. 2. P. 253-270.
- Barnes R. Images of Hope and Despair: Western Apocalypticism ca. 1500-1800 // The Continuum History of Apocalypticism. N. Y., 2003. P. 323-353.
- Bisaha N. Creating East and West: Renaissance Humanists and the Ottoman Turks. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011. 320 p.
- Bouwsma W. J. Postel and Significance of Renaissance Cabalism // Bouwsma W. J. A Usable Past: Essays in European Cultural History. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1990. P. 218-232.
- Cohn N. The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. N. Y.: Oxford Univ. Press, 1970. 412 p.
- Darby P. Bede and the End of Time. Farnham: Ashgate Publ., Ltd., 2013. 276 p.
- Delumeau J. La peur en Occident, XVIe- XVIIIe siècles: une cité assiégée. Paris: Le livre de poche, 1980. 607 p.
- Kuntz M. L. Guillaume Postel. Prophet of the Restitution of All Things His Life and Thought. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981. 270 p.
- Martin J. Venice’s Hidden Enemies: Italian Heretics in a Renaissance City. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1993. 296 p.
- McCabe I. B. Orientalism in Early Modern France: Eurasian Trade, Exoticism and the Ancien Régime. Oxford: Berg, 2008. 409 p.
- McGinn B. Visions of the End: Apocalyptic Traditions in the Middle Ages. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1979. 377 p.
- Pereira J. L. Augustine of Hippo and Martin Luther on Original Sin and Justification of the Sinner. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 505 p.
- Petry Y. Gender, Kabbalah, and the Reformation: The mystical theology of Guillaume Postel, 1510-1581. Leiden: Brill, 2004. 198 p.
- Phelan J. The Millennial Kingdom of the Franciscans in the New World. A Study of the Writings of Gerónimo de Mendieta (1525-1604). Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1970. 179 p.
- Postel G. Les Raisons de la monarchie, et quelz moyens sont necessaires pour y parvenir, là où sont comprins en brief les tres-admirables et de nul jusques au jourdhuy tout ensemble considerez privileges et droictz, tant divins, célestes, comme humains, de la gent gallicque et des princes par icelle esleux et approvez. Paris: [s. n.], 1551. XLVIII p.
- Postel G. Les tres-merveilleuses victoires des femmes du Nouveau monde. A la fin est adjoustée: La doctrine du siécle doré. Paris: Jehan Ruelle, 1553. 119 p.
- Postel G. De la Republique des Turcs et là où l’occasion s’offrera, des meurs et loy de tous Muhamedistes. Poitiers: Enguilbert de Marnef, 1560a. 127 p.
- Postel G. Histoire et considération de l’origine, loy et coustume des Tartares, Persiens, Arabes, Turcs, et tous autres Ismaelites ou Muhamediques. Poitiers: Enguilbert de Marnef, 1560б. 57 p.
- Postel G. La tierce partie des Orientales histoires, ou est exposée la condition, puissance et revenu de l’empire Turquesque. Poitiers: Enguilbert de Marnef, 1560в. 90 p.
- Postel G. Des histoires orientales et principalement des Turkes ou Turchikes et Schitiques ou Tartaresques et aultres qui en sont descendues: œuvre pour la troisième fois augmenté et divisé en trois parties avec l’indice des choses les plus mémorables y contenues. Paris: Hierosme de Marnef, 1575. 374 p.
- Postel G. Absconditorum clavis: traduit du latin pour la première fois. Paris: Bibliothèque Chacornac, 1899. 104 p.
- Postel G. Des Merveilles du monde, et principalement des admirables choses des Indes et du Nouveau monde et y est monstré le lieu du Paradis terrestre. S. l.: s. n., s. d. 96 p.
- Weisinger H. Renaissance Accounts of the Revival of Learning // Studies in Philology. 1948. Vol. 45. P. 105-118.
- Williams G. The Radical Reformation. 3rd ed. Kirksville: Truman State Univ. Press, 2000. 1516 p.