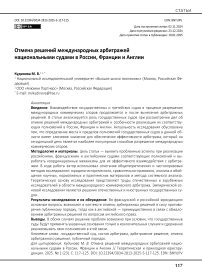Отмена решений международных арбитражей национальными судами в России, Франции и Англии
Автор: Кудинова М.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (23), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Взаимодействие государственных и третейских судов в процессе разрешения международных коммерческих споров продолжается и после вынесения арбитражных решений. В статье анализируется роль государственных судов при рассмотрении дел об отмене решений международных арбитражей и особенности реализации их соответствующих полномочий в России, Франции и Англии. Актуальность исследования обусловлена тем, что определение места и пределов полномочий государственных судов в данной области имеет ключевое значение для обеспечения эффективности арбитража, который на сегодняшний день является наиболее популярным способом разрешения международных коммерческих споров.Методология и материалы. Цель статьи - выявить проблемные аспекты при реализации российскими, французскими и английскими судами соответствующих полномочий и выработать координационные механизмы для их эффективного взаимодействия с арбитражем. В ходе работы автор использовал сочетание общетеоретических и частноправовых методов исследования: юридико-исторического, сравнительно-правового, анализа и обобщения научных, нормативных и практических материалов и метода системного анализа. Теоретическую основу исследования представляют труды отечественных и зарубежных исследователей в области международного коммерческого арбитража. Эмпирической основой исследования являются решения отечественных и иностранных государственных судов.Результаты исследования и их обсуждение. Во французской и российской юрисдикциях основные вопросы возникают в контексте отмены арбитражных решений в силу противоречия публичному порядку, тогда как в английской - преимущественно в связи с обжалованием арбитражных решений по вопросам английского права.Выводы. В обоих случаях решение проблем возможно при условии, что государственные суды будут применять указанные основания только в исключительных случаях и сдержанно реализовывать свои полномочия в этой связи.
Государственный суд, состав арбитража, арбитражное решение, отмена арбитражного решения, публичный порядок
Короткий адрес: https://sciup.org/14133138
IDR: 14133138 | DOI: 10.22394/3034-2813-2025-5-117-125
Текст научной статьи Отмена решений международных арбитражей национальными судами в России, Франции и Англии
Взаимодействие государственных и третейских судов при разрешении международного коммерческого спора не ограничивается процессом его непосредственного рассмотрения в рамках арбитражного разбирательства и не прекращается c вынесением арбитражного решения. При этом после вынесения арбитрами окончательного решения трансформируется характер такого взаимодействия. Если до этого момента государственные суды реализовывали преимущественно функцию содействия арбитражному разбирательству, то после вынесения арбитражного решения активизируется их контролирующая функция.
Дихотомию взглядов на характер взаимодействия государственных судов и международного коммерческого арбитража довольно четко осветил в своей речи М. Дж. Савиль еще в 1995 году:
« С одной стороны, можно сказать, что если стороны согласны разрешать свои споры с помощью частного, а не государственного суда, то судебная система вообще не должна играть никакой роли, за исключением, возможно, приведения в исполнение арбитражных решений таким же образом, как они приводят в исполнение любые другие права и обязательства, о которых договорились стороны. Иначе необоснованно вмешиваться в право сторон вести свои дела по своему усмотрению.
Другая крайняя позиция приводит к совершенно иному выводу. Арбитраж имеет много общего с судебной системой: и то, и другое — форма разрешения споров, зависящая от решения третьей стороны. Справедливость диктует, что при разрешении подобных споров должны применяться определенные правила. Поскольку государство в целом отвечает за правосудие, и поскольку правосудие является неотъемлемой частью любого цивилизованного демократического общества, суды должны без колебаний вмешиваться по мере необходимости, чтобы обеспечить отправление правосудия как в частных, так и в государственных судах »1.
Спустя почти три десятилетия данный вопрос не утратил своей актуальности. Он также продолжает характеризоваться полярностью доктринальных взглядов и отсутствием единообразного подхода на национально-правовом уровне среди континентально-правовых и англосаксонских юрисдикций.
Автор выделяет две основные области участия государственных судов после вынесения арбитражного решения:отмена арбитражных решений и признание и приведение арбитражных решений в исполнение. Определение места и пределов полномочий государственных судов в этих областях имеет ключевое значение для обеспечения независимости третейского суда, эффективности как арбитражного решения, так и арбитражного разбирательства. Данный вопрос приобретает особую актуальность в сравнительно-правовом контексте, поскольку подходы национальных законодателей и правоприменителей к степени и характеру участия государственных судов в процессе рассмотрения и разрешения международных коммерческих споров в арбитраже заметно различаются, а некоторые проблемные аспекты, возникающие в этой связи, носят сопоставимый характер.
Одной из основных характеристик арбитража и его ключевым преимуществом среди альтернативных способов разрешения международных коммерческих споров является окончательность вынесенного по итогам рассмотрения спора решения. Как правило, арбитражные решения не подлежат обжалованию или пересмотру по существу, в отличие от судебных решений. Однако это вовсе не означает, что у сторон отсутствуют какие-либо средства правовой защиты по отношению к арбитражным решениям. Главным таким средством правовой защиты выступает возможность отмены арбитражного решения — процесс, который полностью находится в сфере компетенции государственных судов.
Методология и материалы
Цель статьи — определить проблемные аспекты при реализации государственными судами своих полномочий в ходе рассмотрения дел об отмене арбитражных решений в России, Франции и Англии и выработка соответствующих координационных механизмов для их эффективного взаимодействия с арбитражем.
Теоретическую основу исследования представляют труды отечественных и зарубежных исследователей в области международного коммерческого арбитража: Арона Брохеса ( Aron Broches ), Гари Борна (Gary Born), Алана Редферна (Alan Redfern), А. В. Асоскова, А. В. Гребельского, О. Ю. Скворцова и проч. Эмпирической основой исследования являются решения отечественных и иностранных государственных судов.
В ходе работы над статьей автор использовал сочетание общетеоретических и частноправовых методов исследования: юридико-исторического, сравнительно-правового, анализа и обобщения научных, нормативных и практических материалов и метода системного анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
Типовой закон Комиссии ООН по праву международной торговли (далее — ЮНСИТРАЛ) о международном торговом арбитраже (далее — Типовой закон ЮНСИТРАЛ), который Секретариат ЮНСИТРАЛ называет «Великой хартией вольностей» в области арбитражной процедуры2, предусматривает, что
«обжалование в суде арбитражного решения может быть произведено только путем подачи ходатайства об отмене»3 по заранее определенному, исчерпывающему перечню оснований. Данные основания ограничены весьма узкими юрисдикционными, процессуальными или связанными с публичным порядком вопросами.
На этапе разработки соответствующего положения определение оснований для отмены арбитражных решений представляло собой довольно сложную задачу. Несмотря на различные предложения Рабочая группа в конечном итоге решила ограничить эти основания теми, которые изложены в статье V Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.4 Такой подход был избран, поскольку он обеспечивал наиболее надежные средства поддержки единообразной международной практики, сводя к минимуму потенциальные конфликты, возникающие из-за различий в процессуальных правилах, стандартах и сроках в разных юрисдикциях.
Кроме того, на оспаривание арбитражного решения распространяются темпоральные ограничения. Так, Типовой закон ЮНСИТРАЛ не допускает подачи заявления об отмене по истечении трех месяцев с момента получения арбитражного решения (или исправления, или разъяснения к решению, или с момента вынесения дополнительного решения).
В действительности ст. 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ отражает проарбитражный подход, определяя подачу ходатайства об отмене арбитражного решения в качестве исключительной опции его обжалования, определяя ограниченный круг оснований для отмены арбитражного решения и устанавливая временные ограничения для обращения к данной процедуре. Большинство юрисдикций следуют аналогичному подходу с незначительной вариативностью в части оснований для отмены арбитражного решения и сроков. Соответствующие основания для отмены, как правило, дублируют или практически полностью соответствуют основаниям, изложенным в ст. 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ.
На данном этапе ключевую роль, бесспорно, играют именно государственные суды, наделенные полномочиями рассматривать вопрос об отмене арбитражного решения. Однако основным камнем преткновения являются пределы реализации таких полномочий. Могут ли государственные суды проводить повторную оценку фактических обстоятельств и правовых аргументов? Связан ли государственный суд выводами арбитров? Если нет, то какое значение они имеют для него? И как достичь тот самый баланс между интересами государства и независимостью арбитража? Эти вопросы автор анализирует ниже в сравнительно-правовом контексте.
Подход, закрепленный в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, был воспринят французским законодателем. Однако государственные суды придали ему национально-правовую специфику. Согласно ст. 1518 Гражданского процессуального кодекса Франции (далее — ГПК Франции), «решение международного арбитража, вынесенное во Франции, может быть только отменено»5. Заявление об отмене должно быть подано в апелляционный суд по месту арбитража в течение одного месяца после уведомления о реше-нии6. При этом в отношении иностранных участников этот срок продлевается еще на два месяца, в результате чего он составляет три месяца7.
Франция исторически известна как дружественная по отношению к арбитражу юрисдикция, в том числе поскольку условия для оспаривания арбитражных решений здесь особенно ограничены. В соответствии со ст. 1520 ГПК Франции государственные суды могут отменить арбитражное решение по следующим пяти основаниям:
-
• состав арбитража неправомерно установил или отказал в установлении компетенции;
-
• состав арбитража был неправильно сформирован;
-
• состав арбитража не выполнил возложенные на него полномочия;
-
• имело место нарушение надлежащей правовой процедуры; или
-
• признание или приведение в исполнение арбитражного решения противоречит международному публичному порядку8.
Все эти основания, за исключением последнего, подпадают под действие принципа процессуального эстоппеля, закрепленного во французском процессуальном законодательстве. Согласно данному принципу, сторона, которая осознанно и без законных оснований воздерживается от своевременного обращения к составу арбитража с заявлением о нарушении, считается отказавшейся от своего права на это9. Ввиду ограниченного применения принципа процессуального эстоппеля к основанию для отмены арбитражного решения, связанному с противоречием международному публичному порядку, автор считает необходимым уделить данному вопросу особое внимание.
Область пересмотра в случае рассмотрения французским судом вопроса об отмене арбитражного решения в связи с противоречием международному публичному порядку довольно обширна и в последние годы демонстрирует тенденцию к дальнейшему расширению. Так, в 2022 г. в деле Sorelec французские суды подтвердили, что, несмотря на принцип процессуальной лояльности (из которого вытекает процессуальный эстоппель), действующий во французском арбитраже, стороны имеют право выдвигать обвинения в коррупции и представлять новые доказательства в поддержку этих обвинений при обращении к суду с заявлением об отмене арбитражного решения10.
Кроме того, сама категория «международный публичный порядок» претерпевает изменения в сторону расширения сферы ее применения. Ранее французские суды считали, что арбитражные решения могут быть отменены в случае нарушений международного публичного порядка, которые являются «вопиющими, эффективными и конкретными» или «серьезными, эффективными и конкретными»11. В том же 2022 г. Кассационный суд в деле Belokon отошел от данной триады и постановил, что для отмены арбитражного решения должно иметь место «характерное» нарушение международного публичного порядка12. Тем самым французский суд установил более низкий тест для установления нарушения международного публичного порядка и открыл более широкие возможности для судебного пересмотра в случае рассмотрения дела об отмене арбитражного решения. Нового стандарта пересмотра позже придерживался Апелляционный суд Парижа в деле Gabonese Republic v. Société Groupement Santullo Sericom Gabon 13.
Таким образом, актуальная французская судебная практика свидетельствует о тенденции к усилению контроля государственных судов за арбитражными решениями на предмет их соответствия международному публичному порядку. Это обусловлено самой природой международного публичного порядка, который воспринимается французскими судами как «все правила и ценности, которые французская юрисдикция не может игнорировать даже в международных делах»14. При этом автор полагает, что для обеспечения независимости и эффективности арбитража государственным судам следует обращаться к данному основанию отмены арбитражных решений только в исключительных случаях, как к своеобразному «оружию последней инстанции».
В отечественной юрисдикции, несмотря на прогрессивное законодательное регулирование, российская судебная практика свидетельствует о наличии сопоставимой проблемы. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» (далее — Закон РФ о МКА) содержит положения об отмене решения международного коммерческого арбитража, которые практически идентичны положениям ст. 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ15. В аспекте пределов полномочий государственных судов при рассмотре- нии дел об отмене арбитражных решений отечественный законодатель справедливо устанавливает, что «при рассмотрении дела арбитражный суд […] не вправе переоценивать обстоятельства, установленные третейским судом, либо пересматривать решение третейского суда по существу»16.
Ахиллесовой пятой во взаимоотношениях государственных судов и арбитража в данном аспекте выступает практика применения положения об отмене арбитражного решения в связи с его противоречием российскому публичному порядку. Данная проблема обусловлена неопределенностью категории «публичный порядок» и широкой дискрецией государственных судов при ее применении. О. Ю. Скворцов подчеркивает, что «дискреция относительно публичного порядка будет всегда давать возможность для пересмотра арбитражного решения по существу»17. А. В. Гребельский также подтверждает, что «постановления российских государственных судов, которые вызывают наибольшую критику в третейском сообществе, — это постановления, которые связаны с отменой актов третейских судов в связи с нарушением публичного порядка»18.
Проверка арбитражного решения на предмет его соответствия публичному порядку имеет, бесспорно, важное значение. Очевидно, что унифицировать категорию «публичный порядок» на международном уровне или определить ее наполнение с абсолютной точностью на национально-правовом уровне не представляется возможным. Это неизбежно оставляет за национальными правоприменителями ключевую роль в рассмотрении дел об отмене арбитражных решений по основаниям нарушения публичного порядка.
А. В. Асосков выделяет два кумулятивных критерия для установления нарушения публичного порядка: «(1) нарушение (а) фундаментальных (основополагающих) начал (принципов) российской правовой системы или (б) российских норм непосредственного применения (сверхимперативных норм), которое (2) имеет последствия в виде нанесения ущерба суверенитету или безопасности государства, затрагивает интересы больших социальных групп либо нарушает конституционные права и свободы частных лиц»19. Необходимость установления двух обозначенных критериев подтверждается в том числе российской высшей судебной инстанцией20.
В данном случае автор полагает, что лишь правильное применение оговорки о публичном порядке при установлении обозначенных выше двух кумулятивных критериев и обращение к данному основанию для отмены арбитражного решения лишь в исключительных случаях позволят обеспечить баланс между компетенцией национальных судов, обеспечивающих государственные интересы, и независимостью и эффективностью арбитража.
В Англии закон об арбитраже (Закон об арбитраже 1996 г.) предусматривает следующие основания для отмены арбитражного решения государственным судом: отсутствие у состава арбитража «предметной компетенции»21 или наличие «серьезных нарушений» процедурного характера22. Эти положения обязательны, и их применение не может быть исключено соглашением сторон23. Кроме того, сторона может обжаловать арбитражное решение и по вопросам английского права в соответствии с разделом 69 Закона об арбитраже 1996 г. Однако использование данной опции возможно, только если стороны не исключили такое право на обжалование, в частности, например, посредством выбора институ- циональных правил, таких как Регламент Лондонского международного третейского суда или Регламент Сингапурского международного арбитражного центра, которые по умолчанию закрепляют отказ сторон от права на обжалование.
Как уже было отмечено выше, ключевой вопрос состоит в определении пределов реализации государственными судами своих полномочий при рассмотрении дел об отмене арбитражных решений. Английские суды традиционно придерживаются политики невмешательства в арбитражное разбирательство, основываясь на том, что одной из главных целей Закона об арбитраже 1996 г. является «значительное ограничение судебного вмешательства в арбитражные процедуры»24.
При этом оспаривание арбитражного решения в связи с отсутствием «предметной компетенции» в соответствии с разделом 67 Закона об арбитраже 1996 г. долгое время предполагало именно повторное рассмотрение вопроса о компетенции. В 2010 г. в деле Dallah v. Pakistan лорд Мэнс подчеркнул, что:
« На национальном уровне нет сомнений в том, что независимо от того, был ли заявлен, оспаривался ли стороной и решался ли вопрос о компетенции в арбитраже, сторона, которая не признает компетенцию арбитра, имеет право на полное судебное рассмотрение доказательств по вопросам компетенции в английском суде на основании заявления, поданного в срок в соответствии со ст. 67 Закона об арбитраже 1996 г. »25
При этом английский суд не связан выводами или аргументацией состава арбитража относительно собственной компетенции26. Однако это не означает, что при рассмотрении вопроса об отмене арбитражного решения в связи с отсутствием у состава арбитража «предметной компетенции» суды полностью абстрагируются от позиции арбитров по данному вопросу. Они, напротив, «охотно принимают полезные рекомендации»27.
В сентябре 2023 г. Комиссия по законодательству Англии и Уэльса (далее — Комиссия по законодательству) выступила с инициативой: (i) ограничить возможность стороны оспаривать арбитражное решение в соответствии с разделом 67 Закона об арбитраже 1996 г. путем заявления нового возражения против компетенции или использования новых доказательств, которые не были представлены арбитрам в ходе арбитражного разбирательства, если только сторона не докажет, что она не могла при разумной осмотрительности заявить возражение или представить доказательства в ходе арбитражного разбирательства; (ii) ограничить повторное рассмотрение устных доказательств, если только английский суд не сочтет это необходимым в интересах справедливости28. Законопроект, вносящий, среди прочего, соответствующие изменения в текущую версию раздела 67 Закона об арбитраже 1996 г. и основывающийся на рекомендациях Комиссии по законодательству, в настоящее время рассматривается Парламентом Великобритании29.
Предложенный подход отличается от позиции, занятой английским судом в деле Dallah v. Pakistan . Однако автор подчеркивает позитивный аспект предлагаемой реформы, заключающийся в создании условий для более оперативного и эффективного разрешения вопросов о наличии или отсутствии у арбитров «предметной компетенции». Подобный подход позволяет ограничить вмешательство национальных судов в деятельность арбитража, а также снижает вероятность использования сторонами тактик, направленных на затягивание процесса. Это способствует укреплению автономии арбитража, повышению эффективности разрешения споров и обеспечивает более устойчивую защиту интересов сторон, согласовавших передачу международного коммерческого спора в арбитраж.
При рассмотрении жалобы на арбитражное решение в соответствии с разделом 68Закона об арбитраже 1996 г. судья рассматривает вопрос о том, имело ли место нарушение, подпадающее под девять различных категорий «серьезных нарушений», перечисленных в разделе 68 (2) Закона об арбитраже
1996 г., и если да, то привело ли или приведет ли это «серьезное нарушение» к существенной несправедливости для заявителя.
Раздел 69 Закона об арбитраже 1996 г., в свою очередь, предусматривает право на оспаривание арбитражного решения по вопросу английского права, возникшему в связи с принятым решением. Анализ английской судебной практики демонстрирует, что успешные обжалования арбитражных решений по вопросам права — не частое явление. Согласно отчету Коммерческого суда за 2022–2023 гг., опубликованному Судебной палатой Англии и Уэльса, количество заявлений по разделу 69 Закона об арбитраже 1996 г., полученных в течение отчетного периода, составило 46. При этом в период 2022–2023 гг. всего в 9 случаях была разрешена апелляция, а в 2021–2022 гг. ни одно такое обжалование не увенчалось успехом30. Данный вывод находит подтверждение и в правовой доктрине31.
Одним из немногих успешных примеров такого обжалования стало дело Dakshu Patel v. Kesha Patel 32 . Суд пришел к выводу, что очевидно, что состав арбитража ошибочно не принял во внимание соответствующий критерий, предусмотренный разделом 19 Закона о партнерстве 1890 г., который требует четкого и недвусмысленного поведения, указывающего на намерение сторон изменить условия договора. Английский суд отметил, что состав арбитража допустил юридическую ошибку, установив, что имело место изменение положений о распределении прибыли в двух партнерских соглашениях. Суд также подтвердил, что оспаривание на основании раздела 68 Закона об арбитраже 1996 г. было бы также успешным, если бы было необходимо основывать свое решение на этом пункте. Суд изменил арбитражное решение и постановил, что стороны имеют право разделить прибыль и убытки поровну.
Положение, допускающее оспаривание арбитражного решения по вопросам права, хотя и имеет ограниченное применение и вызывает осторожное отношение со стороны судов, представляет собой ящик Пандоры, таящий в себе риски для арбитража. Оно потенциально открывает путь для чрезмерного вмешательства судов в арбитражное разбирательство и создает риск для окончательности и эффективности арбитражных решений.
Выводы
Взаимодействие государственных и третейских судов не прекращается с вынесением решения, а лишь меняет свой характер. Одной из наиболее важных областей такого взаимодействия, которая, бесспорно, требует соблюдения баланса между интересами государства и независимостью арбитража, является рассмотрение государственными судами дел об отмене арбитражных решений. В данном контексте наиболее остро стоит вопрос, связанный с национальной правоприменительной практикой, которая de facto значительно расширяет контролирующие полномочия государственных судов.
По итогам проведенного исследования автор приходит к выводу, что в российской и французской юрисдикциях чаще всего данная проблема свойственна процессу отмены арбитражных решений в связи с их противоречием публичному порядку. Поскольку национальные правоприменители играют и в силу объективных причин продолжат играть главенствующую роль как в определении содержания категории «публичный порядок», так и в вопросах ее применения к конкретным обстоятельствам, единственным координационным механизмом взаимодействия государственных судов и арбитража по данному направлению может служить: (1) высокий стандарт для установления нарушения публичного порядка, который не предполагает расширительного толкования, и (2) исключительность обращения к данному основанию для отмены арбитражного решения.
В Англии текущая законодательная реформа, мультиплицированная на устоявшийся традиционный подход невмешательства государственных судов в деятельность арбитража, в целом обеспечивает независимость арбитража и эффективность арбитражного разбирательства. При этом определенные риски создает закрепленная законодателем возможность апелляции арбитражных решений по вопросам права, поскольку она фактически открывает путь для пересмотра государственными судами арбитражных решений по существу. Стороны международного коммерческого спора могут элиминировать данный риск, исключив в арбитражном соглашении применение этого положения. Если стороны не сделали этого, то решение обозначенной проблемы возможно лишь при условии, что государственные суды будут сдержанно реализовывать свои полномочия при рассмотрении апелляций на арбитражные решения по вопросам права.