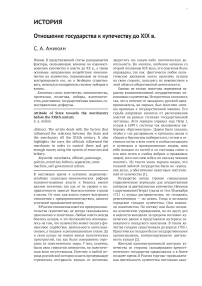Отношение государства к купечеству до XIX в
Автор: Аникин Сергей Александрович
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (16), 2016 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье раскрываются факторы, оказывающие влияние на взаимоотношения купечества и власти до XX в., а также основные направления воздействия чиновничество на купечество, позволяющие не только контролировать его, но и безбедно существовать, используя изощренную систему поборов и взяток.
Купечество, чиновничество, протекция, политика, поборы, взяточничество, расслоение, государственная машина, самоуправление, реформы
Короткий адрес: https://sciup.org/14219681
IDR: 14219681
Текст научной статьи Отношение государства к купечеству до XIX в
В настоящее время в условиях широкомасштабных социально-экономических реформ взаимоотношения власти и бизнеса имеют важное значение, так как от их уровня и направленности зависит благосостояние страны в целом. От того, как власть сумеет выстроить отношения с предпринимательством, зависит успешное продвижение вперед.
В России отношения власти и предпринимательства (купечества) не всегда складывались однозначно и позитивно. Любые власти всегда боялись купцов, и это беспокойство основывалось на том, что купечество может оказать финансовое содействие деятельности оппозиционным, а позднее и революционным силам. Да и сами купцы не имели явных политических пристрастий, так как были совершенно отрезаны от политического мира. У них, конечно, были свои симпатии антипатии, но политическая воля отсутствовала. Поэтому в любой период российской истории власть предержащие стремились отстранить купцов от политики, запретить им какую-либо политическую деятельность. Во многом, особенно начиная со второй половины XIX века, эти опасения были оправданы, так как фактически любое политическое движение могло привлечь купцов на свою сторону, пользуясь их невежеством в этой области общественной деятельности.
Однако не только политика определяла характер взаимоотношений государственных чиновников и купечества. Исторически сложилось так, что в отличие от западного, русский предприниматель, во-первых, был многими нитями привязан к государственной машине. Его судьба напрямую зависела от расположения властей на разных ступенях государственной лестницы. Этот порядок учредил еще Петр I, создав в 1699 г. системы так называемых выборных «бургомистров». Царем было указано, чтобы к «их расправным и купецким делам и сборам в бурмистры выбирать им, гостям и го-стиныя сотни и всех сотен и слобод посадским и купецким и промышленным людям, меж себя погодно из гостей и из гостиныя сотни и изо всех сотен и слобод добрых и правдивых людей, кого они меж себя и по скольку человек похотят». Из текста указа хорошо видно, что главной заботой государства были не «купецкие дела», а обеспечение налоговых поступлений от купечества [1].
Государство всегда строило специальные управленческие вертикали для осуществления контроля за деятельностью купечества. Начиная с царствования Петра I (указы от 16 и 30 декабря 1721 г.) купцы распределились по гильдиям, ремесленники — по цехам. Тогда и возникли городские гильдии купечества. Они возникли повсеместно. По составу они были сословно-купеческим учреждением, но по кругу дел и ведомств выходили за пределы сословно-купеческих рамок и представляли интересы совокупного посадского населения. В таком качестве гильдии существовали до апреля 1785 г. Практически гильдии были государственными организациями, контролирующими деятельность купцов [2].
Жесткий административный контроль купечества со стороны самодержавно-крепостнического государства продолжался и в более позднее время. В России торгово-промышленная деятельность купечества постоянно нахо- дилась в поле зрения государства, а забота о развитии отечественных промыслов и торгов относилась к числу важнейших функций государственной власти. Понимание того, что «купечеством всякое государство богато, а без купечества никакое и малое государство быть не может», — как выразился известный государственный деятель XVIII столетия И. Т. Посошков, находило выход в указах, уставах, положениях и других законодательных актах, издававшихся правительством. Российские купеческие гильдии сначала являлись институтом полицейско-государственным, а не финансовым, поскольку купцы до 1775 г. платили вместе с другими неслужилыми сословиями подушную подать [3].
Государство все больше и больше наступало на финансовые и социальные права купцов, обеспечивая приток в его ряды представителей других сословий. Императрица Екатерина II жалованной грамотой на права и выгоды городам от 21 апреля 1785 г. ввела в каждом городе так называемые «обывательские книги», куда и были вписаны все купцы, «дабы доставить каждому гражданину свое достояние от отца к сыну, внуку, правнуку и их наследию» [4]. Эти преобразования привели к притоку в состав купечества представителей других сословий.
Этот порядок изменился в 1805 г., когда городские гильдии были преобразованы в купеческие отделения «Домов обществ градских». Эти отделения контролировали посредством государственных чиновников всю деятельность купечества [5], а купеческое самоуправление так и не было фактически создано.
Только в 1863 г., в период реформ Александра II, купеческое сословие получило определенное самоуправление. Во главе самоуправления были поставлены выборные купеческой Управы (старшина, товарищ старшины, 2 члена и 2 заседателя) и собрание выборных от почетных граждан и купцов (100 человек) [6].
Исследуя купеческую ментальность, историк В. Н. Разгон считает условия развития предпринимательства в России изначально связанными с доминирующей государственной властью. Именно поэтому стремление купечества выражалось в монополизации своей сферы деятельности и прекращении доступа в нее посторонних лиц [7].
Начиная со времен царя Петра I, российский купец был отстранен от активной политической деятельности. Купечеству приходилось довольствоваться ролью «славослова» в адрес самодержавия, хотя купечество не желало оставаться «сторонним наблюдателем», постепенно втягивалось в политическую деятельность, преимущественно с целью лоббирования своих экономических интересов.
Кое-что царская администрация купцам «дозволяла» [8].
60–70-е гг. XIX в. были периодом бурного «единения» политических и экономических интересов между дворянско-бюрократической средой государственного чиновничества и купеческо-предпринимательскими кругами [9]. Чиновники, не всегда получавшие за свою работу достойное жалованье, видели в купцах источник пополнения своих доходов в обмен на предоставление тех или иных преференций. У многих видных сановников доходы от ценных бумаг составляли существенную часть их бюджета. Как признал Комитет министров в 1880 г., участие высших должностных лиц в делах акционерных предприятий стало «вполне обычным явлением» [10]. В конце концов, осознав ненормальность подобного положения, правительство приняло в 1884 г., т. н. «Правила о порядке совмещения государственной службы с участием в торговых и промышленных товариществах и компаниях, а равно и общественных и частных кредитных установлениях», которыми вводились законодательные ограничения на право участия определенных групп высших государственных служащих в учреждении акционерных обществ и в делах управления ими [10].
Повсеместным был и социально-экономический контроль над купечеством со стороны государства. На эту связь указывают и более современные исследования. Например, Д. Я. Резун и М. В. Шиловский доказывают, что в отличие от Америки, где люди на новой родине учились зарабатывать деньги, заранее были готовы к жесткой конкуренции, не надеясь на государство, в России, несмотря на то, что русские купцы проникли сюда задолго до правительственных отрядов, главенствующим на всем протяжении истории был государственный капитал. Купцы изначально находились в жестких условиях давления со стороны государственных чиновников и государственного капитала [12].
Интерес чиновничества к купеческой деятельности был сугубо материального свойства [13]. Доходы в сфере частного предпринимательства были во много раз выше даже того содержания, которое получали верхи бюрократии. В качестве примера можно сослаться на историю с С. Ю. Витте, который долго колебался, прежде чем покинуть пост управляющего одной из железных дорог с годовым доходом в 50 тыс. руб. и перейти на должность директора Департамента железных дел Министерства финансов с окладом (специально повышенным для него Александром III) в 16 тыс. руб. [14].
Важным фактором формирования ценностных ориентаций российского купечества было стремление всячески «угодить» властям, что порождало «угодничество» и «взяточ- ничество». Постоянно меняющиеся условия предпринимательской деятельности в разные времена требовали от купца демонстрации различных, иногда прямо противоположных черт характера и особенностей психики. Именно угодничество, конформизм, умение приспосабливаться, быть гибким позволяли купцу добиться успеха на профессиональном поприще, даже если внешне это выглядело как противоречивость натуры [15].
Немало бед вызывало взяточничество. Взяточничество всегда было фактором, определявшим ценностные ориентации практически всех сословий России. Умение давать взятки было действительно искусством, и тому, кто им овладел мастерски, был обеспечен на экономический, политический, жизненный успех [16]. Причин распространения взяточничества в рассматриваемый период много, однако ряд авторитетных исследователей, считали, что «государство, заведя сложную канцелярскую машину управления, не имело достаточных средств содержать ее...» [17]. Другие ученые, в частности, А. М. Медушевский и С. А. Князьков, считали, что «Не получая жалованья, многие чиновники, особенно низших классов, откровенно бедствовали, поэтому взятки были нередко единственным способом выживания» [18].
Это повлияло и на положение купечества, которое теперь никак не могло освободиться от необходимости давать взятки «обедневшим чиновникам». «Взятка по-прежнему делается необходимой, — писал бытописатель жизни русского общества второй половины XVIII в. историк Н. Д. Чечулин, — честный секретарь, когда таковой встречается, кажется редким явлением, чуть не чудом». А. Т. Болотов и Г. Р. Державин, известные деятели XVIII в., признаются в своих мемуарах, что давали взятки, а служивший помощником губернского прокурора Г. И. Добрынин «не скрывает, что сам взял дважды взятку... не из жадности, а от стыда, что... живет хуже всякого секретаря» [19]. Прожить тогда на одно жалованье было практически невозможно. По мнению современников, именно материальная необеспеченность гражданских служащих была главной причиной беззакония и беспримерного российского взяточничества [20]. «Правительство искушает честность, оставляя ее в бедности», — писал в 1803 г. публицист, а затем директор Царскосельского лицея В. Ф. Малиновский [21].
Хотя правительство отдавало под суд многих чиновников-лихоимцев, однако низкий уровень жизни снова и снова толкал их на должностные преступления [22]. Главной формой должностных преступлений губернской и уездной администраций были взятки [23].
Тот чиновник, который отказывался брать взятку от богатого купца, нередко страдал за свою добродетель, был среди своих собратьев «белой вороной», которого другие чиновники сторонились. Представление о положении чиновника, не бравшего взятки, дает письмо к нижегородскому военному губернатору кн. А. М. Урусову от товарища председателя Самарской палаты гражданского суда. Отказавшись от взятки в 500 руб. серебром и добившись возвращения в казну 1500 руб. серебром, списанных уже в безвозвратный расход, он с двумя маленькими детьми и больной женой больше недели сидел на хлебе и воде [24].
Российский тип предпринимателя предопределил на много лет вперед силу и слабость купечества, равно как и предпринимательства России. Об этом говорили и сами российские купцы. Например, успешный и богатейший в России купец-фабрикант В. П. Рябушинский в своих мемуарах заметил, что, согласно Максу Веберу, «дух капитализма» в XIX в. на Западе сильно изменился» [25]. По его мнению, существовало множество различий между «русским хозяином» и европейским «пуританином». Мирской аскетизм, связанный с постами, в России был не постоянным, а периодическим. Богатство не считалось грехом, но и на бедность не смотрели как на доказательство неу-годности Богу. В своем сочинении «Купечество московское» В. П. Рябушинский прямо писал, что благословение Бога не только в богатстве, но и в бедности, что «многих из нас когда-то Господь благословил богатством, а сейчас бедностью или даже нищетою» [25].
Во второй половине XIX в. происходит расслоение купеческого сословия, из его среды выделяются люди новой формации, т.е. крупная буржуазия — промышленники, фабриканты, банкиры. Часть из них переходит из купеческого сословия в разряд государственных служащих и другие сферы общественной деятельности: в науку, образование и прочее, если они не хотели заниматься предпринимательством. Некоторые за заслуги получают дворянское достоинство и, соответственно, переходят в другое сословие. Но в деле благотворительности формирующаяся буржуазия становится лидером по сравнению с предшествующим временем. Представители торгово-промышленного сословия в третьем поколении в значительной своей массе уже были людьми интеллигентными, нередко с университетским образованием, повидавшими мир, впитавшими в себя культуры других цивилизаций. Многие из них имели тонкий художественный вкус и высокие духовные запросы. Это обусловило поддержку и финансирование буржуазией российской культуры и науки.
Все купцы знали, что за банкротство и последующую несостоятельность купцов ожидает жестокая кара. В каждом городе специально для несостоятельных граждан, должников, а также различных аферистов существовали так называемые долговые тюрьмы. Это было самое страшное место для порядочных и честных купцов, для аферистов — это возможность избежать оплаты по счетам. Долговые тюрьмы просуществовали вплоть до конца 90-х гг. XIX в. В «яму», так назывались долговые тюрьмы, сажали несостоятельных купцов; перед этим купец скрывался. Искали его всюду, «накрывали» чаще купца или на улице, или в пьяном виде у подруги сердца. Случалось так, что тот же квартальный надзиратель, который у купца пил и ел, препровождал его и в долговую тюрьму. У входа в «долговую тюрьму», где сидели неисправные должники, перед дверьми стоял солдат с ружьем, и еще ходил дежурный сторож, отставной солдат, который опрашивал и пускал через цепь приходивших. В большие праздники купечество, скидываясь, присылало в «яму» корзины со съестными припасами; более всего приносились калачи. Бывали и другие пожертвования. Один благочестивый купец на помин души бабушки к рождественскому разговению пожертвовал пятьсот бычачьих печенок. Жертвовали и вещами: присылались к празднику бумажные платки, правда слежавшиеся, выцветшие и в «дырьях». Долговая тюрьма носила также название временной тюрьмы. Временною она на зывалась потому, что здесь содержались должники до тех пор, пока выплатят долг [25].
Таким образом, государственные органы власти не только не препятствовали, но и всячески стимулировали выделение наиболее предприимчивых, склонных к торговле и промыслам людей из других сословий, всячески поощряли их.
Другим важным элементом выделения купцов из других сословий было наличие сложных социально-экономических условий их предпринимательской деятельности, что способствовало появлению действительно талантливых предпринимателей, было наличие таких условий, как взяточничество, тотальный контроль со стороны государства за купцами, а также наличие многочисленного алчного чиновничества, преобладание государственного капитала над частным.
Список литературы Отношение государства к купечеству до XIX в
- Балицкий Г.В. Купечество.//Москва в ее прошлом и настоящем. М., 1911. Вып. 10. С. 64-65; Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века. М., 1997. С. 112-114.
- О правах и повинностях Российского купечества//Вестник Европы. 1827. С. 75.
- Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения/Ред. и коммент. Б.Б. Кафенгауза. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 17.
- Зегимель И.Е. Необходимые правила для купцов, банкиров, комиссионеров и вообще для каждого человека, занимающегося каким-либо делом. СПб., 1881. С. 79-81
- Кеппен П.И. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851г. СПб, 1857. С. 62, 124.
- О правах и повинностях Российского купечества//Вестник Европы. 1827. С. 77-78.
- Куприянов А.И. Представления о труде и богатстве русского купечества дореформенной эпохи//Менталитет и культура предпринимателей России XVII -XIX вв.: Сб. ст. М.: ИРИ РАН, 1996. С. 95 -96.
- Бурышкин П.А. Москва купеческая. М.: Высшая школа, 1991. С. 83.
- Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1976. С. 78.
- Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX в. Омск, 1995. С. 99.
- Резун Д.Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI -начало XX века: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных процессов. Новосибирск, 2005. URL: http://history.nsc.ru/kapital/project/frontier/index.html. (Дата обращения: 28.04.2010).
- Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С. 51-52.
- Писарькова Л.Ф. К истории взяток в России (по материалам «секретной канцелярии» князей Голицыных первой половины XIX века)//Отечественная история. 2002. № 9. С. 39.
- Банникова Е.В. «Мятущееся» сословие»: противоречия в купеческой среде дореволюционной России. IV Международные Стахеевские чтения: Материалы научной конференции. Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2009. С.45.
- Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII в. М., 1856
- Мрочек-Дроздовский П. Областное управление России XVIII века до учреждения губерний 7 ноября 1775 года. Ч. 1. М., 1876
- Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719 -1727. М., 1902
- Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Т. 1 -2. М., 1913 -1914
- Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978
- Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987
- Писарькова Л.Ф. Российский чиновник на службе в конце XVIII -первой половине XIX века//Человек. 1995. № 3 и № 4
- Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX в. Омск, 1995
- Морякова О. В. Система местного управления при Николае I. М., 1998
- Матханова Н.П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины XIX в. Новосибирск, 1998
- Писарькова Л.Ф. К истории взяток в России (по материалам «секретной канцелярии» князей Голициных первой половины XIX века)//Отечественная история. 2002. № 9. С. 33 .
- Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719 -1727. М., 1902. С. 266.
- Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. Сравнительное историческое исследование. М., 1994. С. 274 -277
- Князьков С.А. Очерки из истории Петра Великого и его времени. СПб., 1914. С. 230 -231.
- ОПИ ГИМ. Ф. 281. Оп. 1. Д. 37. Л. 2 -2 об., 10.
- Писарькова Л.Ф. К истории взяток в России (по материалам «секретной канцелярии» князей Голициных первой половины XIX века)//Отечественная история. 2002. № 9. С. 44.
- Малиновский В. Ф. Размышления В. Ф. Малиновского о преобразовании России, 1803 г.//Голос минувшего. 1915. № 10. С. 250.
- Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 176 -178. РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 6829. Ч. 86 (1848 г.). Л. 22 -24.
- Корельский А. Горнозаводская служба и общественная жизнь на Урале//Русская старина. 1905. № 11. С. 319, 322
- ОПИ ГИМ. Ф. 170. Оп. 1. Д. 73. Л. 39 об.
- Рябушинский В.П. Москва купеческая. С. 131.