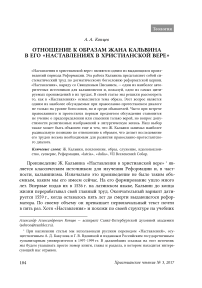Отношение к образам Жана Кальвина в его «Наставлениях в христианской вере»
Автор: Копцев Александр Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (74), 2017 года.
Бесплатный доступ
«Наставления в христианской вере» являются одним из выдающихся произ- ведений периода Реформации. Эта работа Кальвина представляет собой си- стематический труд по догматическому богословию реформатской церкви. «Наставления», наряду со Священным Писанием, - один из наиболее авто- ритетных источников для кальвинистов и, пожалуй, одно из самых цити- руемых произведений в их трудах. В своей статье мы решили рассмотреть то, как в «Наставлениях» осмысляется тема образа. Этот вопрос является одним из наиболее обсуждаемых при православно-протестанском диалоге не только на уровне богословов, но и среди обывателей. Часто при встрече православного и протестанта первым предметом обсуждения становится не учение о предопределении или спасении только верой, но вопрос допу- стимости религиозных изображений в литургическую жизнь. Наш выбор также может быть объяснен еще и тем, что Ж. Кальвин занимал наиболее радикальную позицию по отношению к образам, что делает исследование его трудов весьма необходимым для развития православно-протестантско- го диалога
Ж. кальвин, поклонение, образ, служение, идолопоклонство, суеверие, реформация, vii вселенский собор
Короткий адрес: https://sciup.org/140190300
IDR: 140190300
Текст научной статьи Отношение к образам Жана Кальвина в его «Наставлениях в христианской вере»
догматического богословия, книга сформировалась в результате стремления Кальвина ответить на злободневные богословские вопросы его времени2. В связи с этим отдельные вопросы получили наиболее полное освещение по сравнению с другими.
«Наставления» состоят из четырех книг, непосредственно образам посвящена одиннадцатая глава из первой книги, однако десятая и двенадцатая главы по своему содержанию очень тесно связаны с темой образа. Изначально следует сказать, что отношение к образу у Кальвина переплетено с теорией познания. Для него существуют два рода Откровения — естественное Откровение и Откровение, выраженное в Священном Писании, причем последнему реформатор отдает большее пред-почтение3. При этом Кальвин призывает «искать Бога прежде всего в Писании»4. Такое отношение к Священному Писанию вытекает из его антропологических воззрений. По мнению Кальвина, после грехопадения человеческая природа целиком испорчена, и всякие попытки человека познать Бога неминуемо ведут к суевериям и идолопоклонству. В состоянии полной поврежденности, когда утрачена всякая связь с Богом, единственным источником верного знания о Нем является Его Само-откровение, содержащееся в Библии. Ален Безансон по этому поводу пишет: «С Кальвином изменилось и представление о Боге, и представление о мире. Мир оказался обезбожен… Небо и земля вместо того, чтобы воспеть хвалу Богу, становятся опустевшим и нейтральным театром, на сцене которого одинокая личность может, в случае милости Божией, ощутить Бога, „каким он являет себя в своем Слове“» 5 . В результате «изоляции» человека от Бога все то, что не находит подтверждения в Священном Писании, по мысли реформатора, является суеверием и ведет к идолопоклонству.
Ввиду такого акцента на важности Писания, который по своей сути соответствует провозглашенному ранее реформаторскому принципу Sola Scriptura, Кальвин осуществляет библейский анализ мест, которые касаются темы образов. Из ветхозаветных отрывков Кальвин приводит традиционные ссылки для противников икон на книги Исход (Исх 20:4) и Второзакония (Втор 4:12-16). Первый отрывок воспринимается женевским реформатором как усилие Бога «обуздать дерзость людей»6 в их стремлении создавать образы. Второй же пассаж он использует как разъяснение к первому, из чего им делается вывод о том, что Бог через противопоставления Своего голоса и изображения указывает, что «всякие зримые формы только отвращают от Него»7. Помимо указанных ветхозаветных отрывков Кальвин приводит места из книги прор. Исайи, направленные против идолопоклонства (Ис 40:21; 44:12), и его видение серафимов, закрывающих свои лица перед Богом (Ис 6:2). Комментируя последний отрывок, Кальвин говорит, что это прикрытие херувимами лиц «означает, что сияние Божьей славы так сильно, что даже Ангелы не в силах прямо смотреть на Бога и вынуждены прикрывать лицо. Более того, даже запечатленные в Ангелах отблески этой славы невыносимы для нашего плотского зрения»8.
Из новозаветных отрывков реформатор приводит два: первый — это видение Святого Духа в виде голубя (Мф 3:16), второй — из книги Деяний, где ап. Павел говорит: «Мы… не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого» (Деян 17:29). Итогом всего библейского анализа Кальвина является то, что все указания Священного Писания о явлениях Бога «служат указанием на Его непостижимую сущность»9. Однако не совсем понятным является то, почему в качестве таких явлений Бога «лицом к лицу» женевский папа приводит «облако, дым и огонь» (Втор 4:11), а также приведенное уже нами явление Святого Духа в виде голубя. Автор «Наставления» не уклоняется от рассмотрения явлений Бога в человеческом виде, которые он объясняет как «приуготовление к будущему откровению в лице Иисуса Христа»10. Но само Воплощение, то есть ключевой аргумент богословия образа на Востоке, им не рассматривается.
Обращение к Библии как к главному источнику вероучения может быть объяснено и тем, как Кальвин осмыслял историю новозаветной Церкви. Богословие и литургическая жизнь Католической Церкви, по мнению женевского реформатора, полна искажений, основанных на человеческих выдумках11. В своих попытках возродить Церковь на библейских основаниях Кальвин обращается к раннехристианскому периоду ее истории. Рассматривая историю образа, он указывает, что первые пятьсот лет Церковь не знала никаких изображений. Так, он пишет: «В течение почти пятисот лет, когда христианство переживало расцвет и хранило неповрежденную чистоту учения, в храме обыкновенно не было мазни. Когда же церковное учение повредилось, люди принялись для украшения храмов создавать образы»12. Более того, святые отцы не видели никакой пользы в использовании образов и опасались, что они могут принести много зла13.
Помимо библейского аргумента14 Кальвин приводит еще один, который соответствует принципу soli Deo gloria (только Богу слава), указанному Карлосом Эйре15. Этот принцип предполагает, что человек вправе оказывать славу только Богу. Кальвин пишет: «Всякий раз, когда Бога представляют в зримом образе, нечестиво и злонамеренно умаляют его славу»16. Такое умаление славы происходит по той причине, что поклонение Ему оказывается не в той форме, которую Бог указал в Библии. Неверное поклонение приводит к тому, что «все приписываемое идолу (т. е. образу. — А. К .) оказывается украденным у Бога»17, в результате чего человек посягает на всемогущество Бога.
Третий аргумент женевского реформатора может быть назван эстетическим или художественным. Автор «Наставлений» обращается к анализу искусства «папистов». По поводу современного католического искусства Кальвин пишет: «Всякий увидит, в каком жутком облике представляют они Бога. Что же касается живописных или иных изображений святых, то что это, как не образцы разнузданной роскоши и бесстыдства? Кто согласится принять их, того следовало бы подвергнуть порке. Распутницы в своих вертепах предстают менее разряженными, чем выглядят девственницы на изображениях в папистских храмах. Не более подобающи и одеяния мучеников»18.
Конечно, такая резкая критика может быть воспринята как полемический выпад против католичества, однако вряд ли реформатор сильно преувеличивал. Подтверждением тому могут служить слова Эразма Ро-тердамского, который указывает, что «святых можно увидеть в бессмысленных и даже непристойных изображениях. Это изображения, которые призывают скорее к бесстыдству, чем к благочестию»19. Еще одним свидетельством упадка религиозного искусства Запада перед Реформацией является предписание Тридентского собора (1545‒1563), направленное против непристойностей в религиозном искусстве: «Иконы не должны быть ни написаны, ни украшены по образцу мирской вызывающей красоты... Епископы должны с великим усердием и великой заботой наблюдать за этим, чтобы ничего беспорядочного, ничего, что имело бы неуместный и смущающий вид, ничего непристойного не происходило, так как Дому Божию подобает святость [Пс 93, 5]»20. Приведенные отрывки подтверждают мысль Кальвина о том, что состояние религиозного искусства далеко отстояло от идеала, и даже сама Католическая Церковь осознала необходимость художественной реформы в религиозном искусстве. В других местах «Наставлений» Кальвин говорит о католических образах как средствах удовольствия21, что, в свою очередь, противоречит установленному Богом богослужению, которое не допускает «наслаждения фантазиями человеческого ума»22.
Помимо доводов против образов, Кальвин рассматривает и ряд ико-нопочитательских аргументов с целью их опровержения. Очевидно, ему была известна апелляция защитников икон к изображениям херувимов, помещенных на крышке Ковчега Завета. Реформатор рассматривает отрывок из книги Исход, повествующий о повелении Бога сделать изображения херувимов (Исх 25:17‒21), и приходит к выводу, что смысл этого повеления в том, чтобы люди осознали, что «нет иного способа узреть Бога, кроме воспарения ума ввысь в поклонении Ему»23. Привлечение этого пассажа из Священного Писания в защиту изображений, по мысли Кальвина, недопустимо, поскольку и завесы, и крылья херувимов призваны к тому, чтобы скрыть Бога, причем не только от человеческого взора, но и от восприятия прочими чувствами. Вторая причина, по которой ссылка на херувимов в деле защиты образов не имеет силы та, что «херувимы были нужны в приготовительном, ныне завершенном наставлении в Законе»24. Этот аргумент Кальвина становится более понятен, если принять во внимание то, как он понимал соотношение между Ветхим и Новым Заветами. Хотя женевский реформатор и говорит о единстве двух Заветов, он не мог игнорировать различия между ними. Это различие он определяет через образ покрывала. Для него в Новом Завете открывается то, что существовало, но было скрыто под «покрывалом» в Ветхом. Исходя из такого понимания херувимы, которые должны были скрывать Бога в Ветхом Завете, в Новом Завете не нужны, поскольку Бог открылся в полноте в Иисусе Христе и в принесенном им Откровении. Это не означает, что Ветхий Завет упраздняется совершенно, однако все то, что в нем касалось подготовки Нового Завета, теряет свою значимость с приходом Христа25.
Вторым аргументом в защиту образов, который опровергает Кальвин, является отношение к иконам как к «книгам для неграмотных». Реформатор прямо указывает истоки такого восприятия образа — богословие Григория Великого. Однако женевский папа отвергает это учение, противопоставляя авторитету Григория авторитет Святого Духа26. Отношение к иконам как средству научения является типичным для Запада, поэтому Кальвин уделяет опровержению данного аргумента немало внимания. Он начинает свое опровержение дидактической роли изображений с того, что приводит два отрывка из пророков Иеремии и Аввакума: «Когда Иеремия говорит, что „уставы народов — пустота“ (Иер 10:3), а Аввакум называет литого истукана лжеучителем (Авв 2:18), мы должны уяснить из этого общий смысл учения: все попытки людей познать Бога с помощью изображений тщетны, более того — нечестивы»27. Свою позицию реформатор строит на следующих основаниях. Во-первых, Бог использует иную форму для наставления в вере, «Он сообщает общее для всех людей учение путем возвещения своего Слова и в Таинствах»28. В результате богоустановленной формой научения для Кальвина является проповедь Слова Божия и совершение Таинств, каковых он признает два — Крещение и Евхаристию29. Во-вторых, по его мнению, пророки безоговорочно осудили такое отношение к образам, они противопоставляют образы и Самого Бога. Делают же они это потому, что знание о Боге, которое человек получает через образы, ложное и противоречит Закону Божию30.
Женевский реформатор также задается вопросом: «кто же эти невежды, не способные обучаться иначе, как посредством изображе-ний»?31 В качестве таких невежд он приводит апостолов, и указывает, что они были научены Христом именно посредством слова. Слово, по его мысли, обладает большей силой убеждать и наставлять, нежели изображение. «Простое Слово несет в себе более пользы для простецов, чем тысяча крестов из дерева или камня»32. Указывая на непристойность католических изображений и их богатство, Кальвин проводит мысль, что они не только не наставляют верующих, но и служат соблазном для людей алчных. В довершение всего, стремление католиков оправдать дидактическую роль образа он поворачивает против них самих. Женевский реформатор изобличает их в том, что невежество, против которого Католическая Церковь пытается бороться посредством изображений, процветает в Церкви благодаря нерадивым пастырям, которые лишили свою паству наставлений33.
Третий аргумент, который опровергает Кальвин, связан с темой поклонения. Реформатор пишет: «Неважно, поклоняются ли просто идолу или Богу в идоле»34. Из приведенных слов можно увидеть, что автор «Наставлений» различает два рода поклонения, к которым апеллируют определенные группы, почитающие образы. Первая группа — это откровенные язычники, для которых ценен сам образ. Что же касается второй группы, то возникает некоторое сомнение, кого имеет в виду реформатор, ведь православные со ссылкой на свт. Василия Великого утверждали, что посредством поклонения образу честь воздается первообразу. Направлен ли этот контраргумент Кальвина против православной традиции? Ответом на этот вопрос служит отсыл реформатора к блаж. Августину, который приводит оправдания современных ему «идолопоклонников»: «Даже самые последние невежды почитают не эти видимые формы, но невидимо обитающее в них божество. Наименее погрязшие в скверне идолопоклонства сказали бы, что почитают не идола и не изображаемого им духа, а считают это материальное изображение знаком того, чему должно поклоняться»35. Приведенные слова исключают православную позицию касательно образов, поскольку участники VII Вселенского Собора определили православное понимание поклонения следующим образом: «поклоняющийся (ο προσκυνών) иконе поклоняется (пpoGкuvE^) ипостаси изображенного на ней»36. Вторая группа Кальвина — это те люди, которые воспринимают образы как вместилище чего-то божественного. Кальвин выступает именно против этого, говоря, что идолопоклонники «оказываются настолько глупы, что заключают Бога в какое-то вымышленное обиталище, и в результате почитание самого Бога оказывается невозможным»37. В результате реформатор приходит к выводу, что всякое поклонение образу, «в каком бы виде оно ни совершалось», есть ни что иное, как идолопоклонство38.
Еще одним важным аргументом, который использовали на Западе для защиты образа, было различение двух понятий — latria и dulia. Эти два понятия использовались для различения служения Богу и поклонения Богородице, ангелам и святым. Чтобы опровергнуть правомерность такого использования, Кальвин проводит филологический анализ. Первое, на что он указывает, это то, что почитатели образов не знают истинного смысла понятия latria. Так, Кальвин пишет: «Ведь „latreia“ означает всего лишь „почтительно относиться“; так что из их заявления следует, что они чтут свои образы без почтения»39. Для реформатора два эти понятия выражают одно и то же, а те, кто их различают, только пытаются «представить одну и ту же вещь как две разные»40.
В следующей главе Кальвин возвращается к использованию этого различия и говорит о нем уже в контексте почитания святых. Он указывает, что католики прибегают к такому различению, чтобы «почитание, подобающее Богу, можно было переносить на Ангелов и безгрешных усопших»41. Использование этих двух терминов не может быть допущено и по другой причине, а именно потому, что различие этих двух понятий «не всегда выдерживается в Писании»42. В двенадцатой главе первой книги автор «Наставлений» проводит анализ библейских отрывков для того, чтобы установить, как говорит оно о поклонении. Кальвин комментирует запрет ап. Петра кланяться ему, обращенный к Корнилию Сотнику (Деян 10:25). Он объясняет этот запрет тем, что апостол знал о том, что простой народ в своем «обыденном» языке не имел различий между почитанием Бога и почитанием творения, и потому, оберегая таких людей от суеверия, запрещает сотнику кланяться ему. В результате реформатор приходит к выводу, что в Библии «нам нередко приходится читать о людях, которым кланялись. Но при этом речь идет о поклоне вежливости, о человеческой учтивости. Иное дело религия. Всякий раз, когда в религии почитаются тварные существа, профанируется почитание Бога»43.
Следует сказать несколько слов и том, как женевский реформатор употребляет термины. Первоначально он приводит два термина на греческом языке (λατρεια и δουλεια). Однако термины, которые использовались на Востоке, были несколько иными. Для описания служения, оказываемого Богу, действительно использовался термин λατρεία. Отношение же к иконам и святым описывалось понятием «почтительное поклонение» (τιμητικὴ προσκύνησις). В «Наставлениях» Кальвин использует термин προσκύνησις и понимает его как простой поклон: «Ведь Сатана требовал от Христа всего лишь поклона, по-гречески προσκύνησις»44. В русском переводе «Наставлений» также указывается, что Кальвин приводит два других греческих термина — «’eiSwXoSouXia» и «’eiSwXoXaTpeia»45, которые имеют латинские эквиваленты dulia и latria — первый термин означает почтительную службу раба, а второй — поклонение божеству. И далее в сноске идет пояснение: «Именно об их различении шел горячий спор в первые века христианства»46. Мы склонны предположить, что в процессе формирования богословия образа на Западе использование понятий dulia и latria стало традиционным аргументом в защиту образов. Данный аргумент казался неоспоримым для католиков. Кальвин выступил против этого разделения, но воспринимал его как классический католический аргумент в защиту образа47. При этом, скорее всего, он не знал восточного различения терминов «служение» (λατρεία) и «почтительное поклонение» (τιμητικὴ προσκύνησις). Подтверждением тому служит и вопрос Кальвина, относящийся к постановлениям VII Вселенского Собора: «Так где же это пресловутое различение между „latria“ и „dulia“, под прикрытием которого намеревались обмануть Бога и людей? Ибо собор без всяких различений устанавливает равное поклонение изображениям и живому Богу»48. Данный вопрос свидетельствует о том, что Кальвин не имел в своем распоряжении определений собора, а свои представления о нем строил на основании Каролингских книг.
Подобно классическому использованию понятий dulia и latria, еще одним традиционным аргументом для католиков был отсыл к VII Вселенскому Собору, на что указывает и сам Кальвин49. Зная это, реформатор не преминул предоставить свое отношение к этому собору. Основанием для опровержения апелляции католиков ко II Никейско-му Собору для автора «Наставлений», как мы уже указали, являются так называемые Каролингские книги (Libri Carolini) — памятник VII в. Кальвин так пишет о них: «Существует „Книга опровержений11, составление которой приписывается Карлу Великому и которую по стилю вполне можно отнести к этой эпохе. В ней подробно излагаются взгляды епископов — участников собора вместе с обосновывающими их довода-ми»50. Далее женевский реформатор приводит свидетельства различных епископов в пользу икон, основанных на Священном Писании. Наиболее сильно его задевает то, что иконопочитатели на основании библейских текстов приходят к выводу, что «Бог познается не только через восприятие его Слова, но и через созерцание образов»51. Следом Кальвин рассматривает доводы участников VII Вселенского Собора касательно поклонения. В результате своих рассуждений реформатор делает заключение, что данный собор не имеет авторитета, поскольку его участники неверно толкуют Писание и потому искажают его смысл52. Вторая причина, по которой указанный собор не является авторитетным, та, что на нем не было установлено различий между поклонением изображениям и Самому Богу53. Данное обвинение Кальвина является неправомерным, о чем свидетельствует приведенный выше отрывок из определений, и может быть объяснено тем, что знания о II Никейском Соборе он черпает из Каролингских книг, автор которых также обвиняет иконопочитателей в неверном толковании Писания54.
В заключение следует сказать о том, каково отношение Кальвина к искусству. Кальвин не отрицает возможности существования искусства. «Искусство живописи и ваяния — это дар Божий»55. Женевский реформатор выступает за правильное употребление этого дара, который Бог дает, во-первых, «для Его прославления», а во-вторых, для блага людей56. Критерием легитимности изображения является в первую очередь Божественный Закон. К дозволенным изображениям относятся «достойные памяти события, животные, города, страны». Основная цель такого рода изображений — служить «предупреждением или напоминанием». Главным требованием, которое предъявляется к изображению женевским реформатором, является доступность предмета для созерцания плотским зрением. Художник вправе изобразить только то, что видимо оком57.
Все остальные изображения создаются с целью получить удовольствие, что Кальвин не приветствует.
Подводя итог всему нашему обзору, можно заключить, что Кальвин в своем труде выдвинул достаточно веские аргументы против использования изображений в религиозной жизни. Все его аргументы против образов и опровержение иконопочитательской позиции базируются на Священном Писании и могут быть сведены к двум ключевым посылам. Во-первых, в Ветхом Завете содержится запрет использовать изображения. Во-вторых, Библия не содержит каких-либо указаний о том, что образам следует поклоняться. Писание становится главным аргументом Кальвина в силу того, что оно является единственным источником знания о Боге, не ведущим к суевериям. Что касается контраргументов женевского реформатора, то мы можем заключить, что он не был знаком с восточным богословием иконы непосредственно. Используя информацию о VII Вселенском Соборе, содержащуюся в Каролингских книгах, он полагал, что опроверг и западное, и восточное учение об образе. Однако ни один из главных восточных аргументов так и не был им целиком рассмотрен. Кальвин пытается опровергнуть учение о различении между служением, подобающим Богу, и почтительном поклонении. Он опровергает данный аргумент в том виде, в котором он существовал на Западе, при этом отказывая восточному богословию в таком различении. Об использовании Воплощения Христова в защиту образов — ключевом восточном аргументе — Кальвин совершенно не упоминает. Это позволяет сделать вывод, что, черпая информацию из «вторых рук», женевский реформатор был практически не знаком с восточной традицией и вся его критика почитания образов направлена против западного осмысления вопроса почитания изображений.