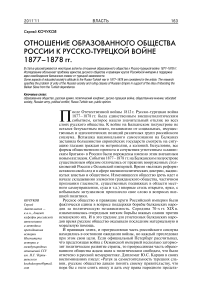Отношение образованного общества России к русско-турецкой войне 1877-1878 гг
Автор: Кочуков Сергей Анатольевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 11, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые аспекты отношения образованного общества к Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Исследование обозначает проблему единства русского общества и правящих кругов Российской империи в поддержке идеи освобождения балканских славян от турецкой зависимости.
Образованное общество, русская армия, политический конфликт, русско-турецкая война, общественное мнение
Короткий адрес: https://sciup.org/170165634
IDR: 170165634
Текст научной статьи Отношение образованного общества России к русско-турецкой войне 1877-1878 гг
П осле Отечественной войны 1812 г. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. была единственным внешнеполитическим событием, которое нашло значительный отклик во всех слоях русского общества. К войне на Балканском полуострове не остался безучастным никто, независимо от социальных, имущественных и идеологических позиций различных групп российского социума. Вспышка национального самосознания на Балканах заставила большинство европейских государств смотреть на ситуацию глазами граждан не метрополии, а колоний. Безусловно, все формы общественного протеста и сочувствия угнетенным «славянским братьям» в России были порождены именно этим внезапным новым взглядом. События 1877–1878 гг. на Балканском полуострове существенным образом отличались от прежних вооруженных столкновений России с Османской империей. Время «великих реформ» оставило свой след и в сфере внешнеполитических доктрин, выдвинутых властью и обществом. Изменившееся общество (речь идет о начале складывания элементов гражданского общества, частичном признании гласности, существенных подвижках в области местного самоуправления, суда и т.д.) впервые столь открыто, ярко, с небывалым энтузиазмом произнесло свое слово в вопросах внешней политики.
КОЧУКОВ Сергей
Анатольевич – к.и.н., доцент кафедры российской цивилизации и методики преподавания истории Института истори и и международных отношений СГУ им. Н.Г. Ч е рнышевского kochukovgrot@gmail. com
Русское общество и правящие круги Российской империи были фактически едины в вопросе поддержки борьбы балканских народов за политическую независимость. Середина 70-х гг. XIX в. ознаменовалась очередным витком борьбы южных славян против османского ига. И в это трудное для угнетенных балканских народов время русское общество оказывало последним материальную и моральную помощь.
И правящая элита, и прогрессивная часть российского социума находились в состоянии ожидания войны, но каждый преследовал при этом свои цели. Если официальный Петербург рассчитывал, что предстоящая война с Османской империей несколько затормозит политическое развитие страны, то прогрессивная часть образованного общества ждала шага к политическим свободам, что было отмечено в русской мемуаристике. Дипломат Ю.С. Карцов в своих воспоминаниях писал: «Ратуя за самостоятельность турецких славян, русское общество давало понять своему правительству, что пора бы с него снять опеку и дать ему права народного предста- вительства, которыми прочие европейцы давно пользуются»1.
Интерес русского общества к славянской проблеме к 70-м гг. XIX в. имел уже длительную историю; всеобъемлющий характер он приобрел сразу же по окончании Крымской войны 1853–1856 гг. Вероятнее всего, в этом не последнюю роль играли и реваншистские настроения. Причем общественные силы России формировали свои взгляды совершенно самостоятельно, без всякого давления правительства. Более того, как считали многие представители русской интеллигенции, правительство само нуждалось в поддержке своей внешней политики со стороны общества. Это особенно емко сформулировал лидер Московского славянского благотворительного комитета И.С. Аксаков, когда писал: «Я полагаю, что самому правительству нужна поддержка общественного мнения, нужна в том смысле, что она может перед Европой указывать на необходимость утишать возбуждение умов и внутри себя “законные сочувствия населения”… возвеличивать через собственные заслуги по части само-отвержения»2.
Деление русского общества на консервативные и оппозиционные силы по отношению к войне само по себе устарело и является достаточно проблематичным. В целом существовало единство русского общества и правящих кругов Российской империи в поддержке идеи освобождения балканских народов от турецкой зависимости. Русско-турецкая война 1877– 1878 гг. вызвала необычайный резонанс в настроениях всех слоев русского общества и всех течений в общественном движении. Вопрос заключался, во-первых, в том, как быстро Россия должна начать войну против Порты и в каком виде Российская империя должна помогать народам Балканского полуострова. Во-вторых, по-разному понималось соотношение позиций власти и общества в решении задач внешней политики; отдельными участниками общественного движения ставился вопрос о взаимосвязи внутренней и внешней политики России.
Отношение консервативно-монархических кругов отражало, в первую очередь, позицию официального Петербурга. Одним из самых заметных представителей консервативных идей являлся редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков. В первую очередь Катков подверг жесткой критике деятельность Славянского благотворительного комитета и, в частности, его лидера И.С. Аксакова. Катков считал, что славянские комитеты помогали балканским славянам лишь теоретически, а необходима помощь сугубо военная, силовая. Такая ситуация, на взгляд редактора «Московских ведомостей», была следствием отсутствия ясной позиции русского правительства: «…правительство наше, оставаясь верным своим международным обязательствам, не принимало никакого участия в направлении добровольного движения русских людей на личные жер-твы»3. Однако ради справедливости необходимо сказать, что Россия, не афишируя военную помощь балканским странам, все-таки ее осуществляла4.
События на Балканском полуострове полностью поглотили Каткова5. Его взгляды, представленные на страницах «Московских ведомостей», по свидетельству современников, «владели умами и сердцами многих. Никто лучше него не выражал то, что чувствовали мы все, а потребность в отрезвлении после ряда фальшивых нот – была очень велика»6. Михаил Никифорович увлекся балканскими проблемами настолько, что даже пытался разобраться во всех хитросплетениях международной обстановки в Европе.
Своеобразие позиции М.Н. Каткова по отношению к войне состояло еще и в том, что он указывал на неподготовленность к ней всего русского общества, поскольку фактически возникла ситуация, когда общественные силы вынуждены были брать на себя выполнение правительственных функций. В связи с этим следует отметить, что по-своему притягательная для И.С. Аксакова модель соперничества общества и власти в деле освобождения балканских славян для М.Н. Каткова была совершенно неприемлема. Даже ситуация 1876 г. в Болгарии и Сербии, по его мнению, оказалась русскому обществу не по силам. Он полагал, что славянские комитеты были не подготовлены даже и для благотворительной деятельности1. Тем не менее действия, которые осуществляло русское общество в период Балканской войны, Михаил Никифорович рассматривал как явно позитивные, считая, что «это проявление народного духа <…> способствовало закреплению исторической связи России с христианским Востоком»2.
Примером достаточно сильно отличающихся от позиции М.Н. Каткова воззрений на балканские события 1876 г. и Русско-турецкую войну 1877– 1878 гг. являются взгляды представителя прогрессивной интеллигенции М.П. Драгоманова. На тему балканского вопроса в 1876 г. им была написана работа «Турки внутренние и внешние». По всей видимости, Михаила Петровича побудили написать эту работу события апреля 1876 г., когда в Болгарии вспыхнуло антитурецкое восстание. Безусловно, Драгоманов не мог спокойно наблюдать за ситуацией на Балканах, но и открыто призывать русское общество на борьбу с Османской империей он не торопился. Позиция Драгоманова отличалась и от официальной петербургской, и от радикально-аксаковской.
В первую очередь Драгоманов выступил как оппонент И.С. Аксакова – организатора Московского славянского благотворительного комитета. По отношению к проблеме освобождения славянских народов и, соответственно, противодействию Турции М.П. Драгоманов был сторонником «партии Ф.М. Достоевского». «Партия Ф.М. Достоевского» считала, что Российская империя выполняет особую историческую миссию, заключавшуюся в сплочении вокруг нее славянских народов на основе православия, в то время как «партия И.С. Тургенева» отрицала значение религиозного фактора, полагая, что целью войны является не защита православия, а освобождение славян. Очень точно позиция Тургенева сформу- лирована в письме к кн. И. Черкасской: «Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства, они только и живут во мне и коли этому нельзя помочь иначе как войною – ну, так война!»3.
Возникает вопрос, в чем же заключалась причина противостояния М.П. Драгоманова по отношению к взглядам И.С. Аксакова, М.Г. Черняева и др.? Драгоманов заявил, что славянский вопрос на Балканах тесно связан с внутренней политикой России. Он ставил вопрос о границах произвола самодержавной бюрократии (так называемые «турецкие порядки в России») и о международных плодах этого внутреннего произвола: «Турецкие порядки в России в течение всего XIX века были лучшею опорою турецкого господства в Константинополе»4.
М.П. Драгоманов проводил параллели между историческим развитием Российской империи и Турции. Михаил Петрович, безусловно, считал, что Османская империя – главный противник России на Балканском полуострове. Но, наряду с этим, он полагал, что внутренняя жизнь России не лучше турецкой, скорее, наоборот. Исследователь отмечал: «Конечно, многое в Турции гораздо резче – на то она и Турция. Но зато в Турции есть воля хоть переходить из одной гяурской секты в другую, а кроме того, даже г. Катков насчитал не очень давно в Турции больше народных школ, чем в России, а вы сами сознавались, что розничная продажа газет в Константинополе вольнее, чем в Петербурге»5. Главная задача России в данный момент, по мнению Драгоманова, заключалась в проведении «действительных» реформ в России. И только решив их, можно было начинать войну с Турцией, освобождать «несчаст-ныхбратьев-славян».Именнобюрократов внутри России, весь косный чиновничий аппарат Драгоманов понимал как «внутренних турок», которые гораздо опаснее, чем «турки этнические»6. Наконец, Драгоманов был просто ярым противником того, чтобы Россию превращали в своеобразную марионетку в руках балканских стран и, в частности, Сербии1. Примечательно, что это мнение оппозиционно настроенного историка разделял и консерватор кн. В.П. Мещерский, который напрямую заявлял, что «слышал Ристича [имеется в виду Йован Ристич, член сербской скупщины], говорившего о своих русских симпатиях, я представлял себе совсем другое… меня сердила та снисходительная благосклонность, с которой он говорил о русских, давая понять, что если они, сербы, к русским так любезны и так предупредительны и даже так деликатны теперь, то это из уважения только к тому, что в них теперь крайняя нужда»2. Таким образом, можно заключить, что отношение к Русско-турецкой войне М.Н. Каткова и М.П. Драгоманова обозначило две противоположные позиции, внешне имевшие точки соприкосновения в критике идеологических позиций И.С. Аксакова как наиболее последовательного и деятельного сторонника широкого участия российской общественности в решении балканских проблем. В первом случае эта критика брала свои истоки в характерном для русского консерватизма стремлении ограничивать сферы независимой от власти общественной активности, во втором – в присущем наиболее последовательным либеральным и радикально-демократическим деятелям сопротивлении тенденции забывания внутриполитических проблем России (задач реформирования ее социально-политического устройства) в периоды концентрации внимания на вопросах внешней политики.
Очень жесткую позицию (высказанную, правда, в частной переписке) по отношению к Русско-турецкой войне занимал К.Д. Кавелин. Он, в отличие от большинства представителей русского общества, не уделял большого внимания идеям всеславянства и освобождению Балканского полуострова от власти турок. Для Константина Дмитриевича более важны были сугубо внутренние проблемы России, чем чрезвычайно затратная в экономическом и людском плане война с Османской империей. Действительно, экономическое состояние России было не из лучших, и употребление значительного количества финансов на борьбу с Портой загоняло Россию в жесткие тиски экономии. В своем письме к К.К. Гроту К.Д. Кавелин четко объяснил свою позицию по отношению к русско-турецкой войне: «Вы меня спрашиваете, что я думаю о турецких делах? Теперь муссируют турецкий вопрос и эффектные события Балканского полуострова, потому что совершенно незнакомы с неэффектной, но крайне печальной русской действительностью и конечно потому еще, что гораздо лучше устроить литературное чтение, спектакль или вечер в пользу герцеговинцев, чем основать и поддерживать в добром порядке одну сельскую школу или один сельский банк»3. Однако размышления общественных деятелей, пытавшихся критически осмыслить балканский вектор внешней политики России, подобно М.П. Драгоманову и К.Д. Кавелину, буквально тонули в той массе выступлений в поддержку войны с Турцией, которые характеризуют ситуацию 1877 г.