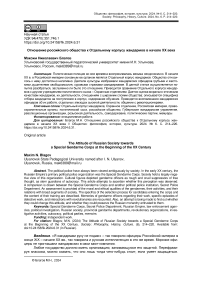Отношение российского общества к отдельному корпусу жандармов в начале XX века
Автор: Благов М.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Политическая полиция во все времена воспринималась весьма неоднозначно. В начале XX в. в Российской империи основным ее органом являлся Отдельный корпус жандармов. Общество относилось к нему достаточно негативно. Деятели культуры изображали жандармских офицеров грубыми и жестокими душителями свободомыслия, суровыми стражами самодержавия. В данной статье осуществляется попытка разобраться, заслуженно ли было это отношение. Приводится сравнение Отдельного корпуса жандармов с другим учреждением политического сыска - Охранным отделением. Дается оценка морально-этическим качествам жандармов, их деятельности, отношениям с широкими слоями общества; описывается специфика отбора кандидатов на поступление в корпус, содержание обучения. Приводятся воспоминания жандармских офицеров об их работе, отдельных эпизодах сыскной деятельности, общении с революционерами.
Отдельный корпус жандармов, охранное отделение, российская империя, правоохранительные органы, политический сыск, российское общество, губернские жандармские управления, революционные организации, розыскная деятельность, самодержавие, политические партии, мемуары
Короткий адрес: https://sciup.org/149145549
IDR: 149145549 | УДК: 94(470):351.746.1 | DOI: 10.24158/fik.2024.6.31
Текст научной статьи Отношение российского общества к отдельному корпусу жандармов в начале XX века
Введение . «Я жандармам руку не подаю» – так говорили офицеры Российской империи в конце XIX – начале XX вв., так говорила и русская интеллигенция в это же время. Морские офицеры не приглашали жандармских в свои кают-компании.
Любое государство должно иметь организацию, занимающуюся его защитой. Перефразируя классика, можно сказать, что оно лишь тогда чего-нибудь стоит, если умеет защищаться.
«И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ» – эти слова М. Лермонтова помнит большинство россиян. Помнит и верит им, представляя себе жандармов душителями свободы, бездушными истязателями, что совершенно не соответствовало действительности.
Отдельный корпус жандармов был не таким многочисленным и всемогущим, каким его можно представить, если верить идеологическим клише. Другое дело – эффективность его было достаточно велика, чтобы создавать подобное ощущение. Но важнее другое: до тех пор, пока у царствующих императоров хватало политической воли противостоять антигосударственным обществам, данной организации хватало сил, энергии и возможностей выполнять ее.
Корпус жандармов был создан 28 апреля 1827 г. императором Николаем I, первым его руководителем стал граф А.Х. Бенкендорф. И именно корпус жандармов в течение следующих 90 лет обеспечивал государственную безопасность Российской империи. Изначально организация занималась контрразведкой, фальшивомонетчиками, цензурой, революционерами, старообрядцами, бесчинствами помещиков по отношению к крестьянам, злоупотреблениями и казнокрадством, бракоразводными делами. Граф А.Х. Бенкендорф даже не находил «возможности поименовать все случаи и предметы», на которые должен обращать внимание чиновник III Отделения при исполнении своих обязанностей, и предоставлял их его «прозорливости и усердию»1.
Во многих странах и во все времена политической сыск, окружённый зловещей и мрачной аурой, вызывал у обычных обывателей неприязнь и отторжение. Не избежал этой участи и Отдельный корпус жандармов Российской империи. Несмотря на пропаганду власти, синий мундир не пользовался большой популярностью в обществе. Ходили мифы о жандармских злодеяниях. Зачастую источником для них служили переиначенные факты. Так, пункт присяги о том, что жандарм всегда должен ставить государственный и общественный интересы выше личных, переиначивали в то, что жандарм должен давать особую клятву, в которой он отрекался от своей семьи и обещал никого не щадить.
По всему обществу ходили слухи, что в жандармском управлении людей пытали, сбрасывали в ямы, убивали и выкидывали в реки. Подливали масла в огонь и идейные противники царского режима, многие из которых к концу XIX – началу XX вв. были писателями и публицистами и в своих произведениях изображали жандармов как бездушных болванов, готовых слепо служить царскому режиму и любыми способами подавлять инакомыслие. Рассказы того времени содержат описания жандармских офицеров с тупыми бульдожьими физиономиями, которые не останавливаются ни перед чем, пытают и истязают людей, заподозренных в нелояльности к власти, физически и морально. Ходили слухи о особых камерах в Петропавловской крепости, переделанных в пыточные застенки. Все редкие попытки писателей начала XX в. как-то очеловечить жандармов путём придания им каких-то человеческих черт отторгались обществом.
Но так ли это на самом деле? В данной статье мы рассмотрим отношение общества к жандармам и особенности взаимодействия граждан с представителями корпуса на примере провинциальных губернских жандармских управлений (ГЖУ), в частности, Симбирского жандармского управления.
Становление кадров жандармских офицеров . Путь в жандармы начинался с зачисления претендента на специальные курсы, которые проводились в Санкт-Петербурге. Офицеры из военных частей при наличии желания должны были подать документы в штаб Отдельного корпуса жандармов (ОКЖ). В начале XX в. правила приёма в корпус, а также учебные и экзаменационные программы утверждались командиром ОКЖ. Отбор был достаточно жёстким, желающие должны были удовлетворять ряду требований, которые во многом похожи были на современные, предъявляемые к претендентам при наборе в Федеральную службу безопасности. Их содержание менялось в зависимости от политической ситуации и от духа времени. Например, в XIX в. главным условием для поступления на службу в жандармерию являлось потомственное дворянство. Также важными условиями было хорошее образование и опыт военной службы. Не допускались в корпус представители других религий, кроме православного христианства, а также лица польского происхождения и евреи, даже если они были выкрестами. Это обуславливалось национальной политикой Российской империи, которая во многом была антисемитским государством. Недопуск поляков на службу объяснялся частыми бунтами представителей этой национальности в XIX в. и общим неспокойствием в герцогстве Варшавском. Приветствовались выпускники военных и юнкерских училищ, особенно закончившие учебу на «отлично» (Новоселов, 2014).
В начале XX в. требования смягчились, стало возможно принимать в корпус лиц с гражданским образованием, а также с военным, но не «отличников». Смягчились и конфессиональные требования. В корпус начали принимать не только православных, но и католиков, армян и протестантов. Что касается возрастного ценза, то для поступления в корпус подходили мужчины в возрасте от 24 до 33 лет.
Большую роль играли нравственные качества офицеров, желающих поступить на службу в корпус. Они должны были вести высокоморальный образ жизни, не играть в азартные игры, не иметь никаких долгов и так далее. Начальство с предыдущего места службы давало на офицера характеристику, в которой указывался его моральный облик и приводились сведения из биографии. Также на претендентов негласно собирали информацию местные органы сыска1.
И вот молодой офицер, прошедший все этапы отбора, отправляется на курсы жандармов. Сначала он должен получить приглашение. Его можно было ждать несколько лет. Жандармские курсы находились в Петербургском дивизионе. Сроки обучения варьировались от 3 до 6 месяцев. В экстремальных ситуациях, таких как Первая русская революция, сроки обучения сокращались до 8 недель. Занятия проходили каждый день, кроме выходных, по 4 часа, обычно с 10:00 до 15:00. На курсах кандидаты в жандармы усваивали устройство корпуса, права и обязанности его членов, различные методы жандармской деятельности, такие как производство дознаний, переписки и так далее. Также преподавалась история революционного движения, курсы антропометрии для установления личности преступников. Изучалась шифрографика для разгадывания шифров, которые использовали революционные организации, а также для чтения переписок политических заключённых, которые, сидя в камерах крепостей, разработали определённые коды для общения. Работники корпуса жандармов должны были знать их для того, чтобы расшифровывать перехваченные переписки. Были и практические занятия, на которых обучающиеся должны были сами проводить дознания.
Всё время обучения будущий жандармский офицер получал жалование из своей бывшей части. Также от корпуса жандармов ему полагалось 25 рублей квартирных. Нельзя сказать, что это были очень большие деньги, но и малыми их тоже назвать нельзя. Примерно столько же получал промышленный рабочий на заводе. А вознаграждение преподавателей, которые вели эти курсы, составляло около 40 рублей в месяц, и такая оплата труда считалась хорошей. По воспоминаниям курсантов, вечерами многие из них проводили время в ресторанах и прочих увеселительных заведениях. Курсы заканчивались экзаменами, на которых приглашали, помимо преподавателей, начальника штаба Отдельного корпуса жандармов и его помощников. Сдача проводилась по билетам. После успешного завершения экзаменов начиналось распределение по ГЖУ. Офицер получал 100 рублей подъёмных, отпуск и отправлялся к новому месту службы, где сразу включался в трудовую деятельность.
Многие из выпускников отмечали, что информации, которую преподают на курсах, им было недостаточно для ведения полноценной розыскной деятельности, и самое главное, она не отвечала духу времени.
Восприятие обществом жандармов . Моральный облик жандармов того исторического периода представлен в трех основных источниках – официальных архивных переписках и документах, художественной литературе и мемуарах. Последние воспринимаются многими обывателями как надёжный источник, но это не совсем так. Автор мемуаров обычно пытается показать себя в положительном свете, оправдаться перед потомками. Даже если он пишет, как думает, объективно, это не всегда может быть так в реальности. Многие вещи он может забыть или исказить. На данный момент написано и исследовано огромное количество мемуаров жандармов и о жандармах. Они дают противоречивую картину морального облика представителей корпуса и отношения к ним со стороны общества. Примером могут послужить записи провинциального жандармского офицера А.М. Полякова. В них он, не скрываясь, сообщает, что поступил в корпус из корыстных побуждений, так как хотел служить в жандармах, потому что для него это была несложная работа, которая хорошо оплачивалась и давала определённую власть над обществом. При этом, оправдывая себя, А.М. Поляков пишет о том, что многие жандармские офицеры вели себя подобным образом и попали в корпус по схожим причинам. В своих мемуарах он высмеивает сослуживцев. Приводит примеры глупости, некомпетентности, нерасторопности и корыстолюбия многих знакомых ему жандармов. Это ни в коем случае нельзя назвать объективной оценкой. К тому же нужно учитывать, что писались эти мемуары в 1917 г., после Февральской революции, когда отношение к политической полиции со стороны общества было остро негативным2.
Противоположную позицию занимает автор других мемуаров – симбирский жандармский офицер Николай Кравец. В его воспоминаниях мы видим примерного офицера, ревностного и идейного стража порядка, который верит в свою правоту и не видит ничего зазорного в своей службе. Убеждения его были тверды и не подлежали изменениям. В своих воспоминаниях Н. Кравец описывает многочисленные нюансы работы с населением, а также отношение гражданского общества к офицерам жандармов, в том числе представителей революционной или околореволюционной среды. Он описывает работу в крестьянской общине, которая была недовольна реформами П. Столыпина и внимала пропаганде эсеров; волнения среди студентов-мусульман Симбирской губернии, которые, окончив обучение в Турции, массово уклонялись от службы, нанося себе увечья; пресечение деятельности контрабандистов, которые незаконно ввозили оружие на территорию губернии для продажи его криминальным элементам и членам революционного подполья; недовольство городской интеллигенции, вызванной большим списком запрещённой литературы; забастовки рабочих на фабриках Акчурина. Во всех этих зарисовках видно, что Н. Кравец очень серьёзно подходит к своим обязанностям и болеет за своё дело. Он обличает коллег, которые, по его мнению, недостаточно расторопны и компетентны, но при этом указывает на то, что это единичные явления, которые не показывают общего состояния дел. Даже в общении с профессиональными революционерами Н. Кравец держится достойно и доказывает свою правоту и точку зрения. Он описывает подробности ареста «бабушки русской революции» Е.К. Брешко-Брешковской, который произошёл в сентябре 1907 г. Н. Кравец конвоировал её в Санкт-Петербург в арестантском вагоне и большую часть времени дороги провёл за беседой со старой и опытной революционеркой. Е.К. Брешко-Брешковская поинтересовалась у своего конвоира: «Стыдно Вам, молодому человеку, было идти в жандармы?», на что Н. Кравец твердо ответил: «Лично меня нисколько не шокирует моя служба – это дело убеждения»1.
Реальность такова, что в российском обществе начала XX в. установилось крайне неприязненное отношение к жандармам. Это видно и по многочисленным официальным документам, и по нарративным источникам. В целом, такое отношение не ново и характерно не только для Российской империи, но и для большинства стран Европы XIХ – начала XXI вв. Политическая полиция ввиду особенностей своей деятельности редко пользовалась популярностью в народе. Для российского общества еще в XIХ в. было вполне характерно негативное отношение либеральной интеллигенции к политической полиции. В XX в. оно распространилось на широкие круги населения.
Неприязнь к жандармам проявлялась не только в литературе и общественных дискуссиях, но и в бытовых вопросах. Были случаи, когда родственники невесты отказывали в женитьбе жандарму, ссылаясь на его профессию. Многие заслуженные деятели, государственные чиновники не хотели даже слышать о том, чтобы их дети становились жандармами, хотя, казалось бы, они тоже были государственными служащими и должны были понимать, что жандармы охраняют их государство2.
Представителей корпуса сторонились, старались обходить стороной и как можно меньше контактировать с ними в повседневных бытовых делах. При этом подавляющее большинство обывателей, которые негативно относились к жандармам и сторонились их, никогда не имели дел с ними. Они не подвергались слежке, арестам, обыскам или каким-то другим репрессиям со стороны жандармских офицеров, о которых так живописно рассказывали оппозиционные литераторы. Многие из них видели в своей жизни жандармов только на железнодорожных станциях.
Откуда же такое негативное отношение? Всему виной – общественное мнение, которое создавалось интеллигенцией и навязывало обществу зловещий образ жандарма – душителя свобод.
Имело место и усреднение образа жандарма. Ни для кого не секрет, что революционная деятельность в любом государстве в первую очередь осуществляется в столице и крупных городах. Провинция редко оказывается подвержена серьёзной революционной активности. Те же самые процессы происходили и в Российской империи. Если столичным жандармам приходилось иметь дело с достаточно мощным революционным подпольем, крупным политическими партиями, активными боевыми отрядами, то в провинции офицеры жандармов занимались текущей работой по выявлению антигосударственных взглядов, гласным и негласным надзором за сосланными в губернию правонарушителями, вели работу в крестьянской среде, разъясняли недопустимость бунтов и поджогов кулацких хозяйств, разбирали личные дела обывателей и выявляли настроенных негативно к власти и императору3.
Профессиональная деятельность жандармов. При этом нельзя сказать, что провинциальные жандармы плохо выполняли свои обязанности. Они работали в пределах своей компетенции и достигали неплохих результатов. Были подвержены критике и самокритике. Тот же самый ротмистр Н. Кравец указывает на факты, порочащие честь корпуса жандармов. Например, в 1908 г. жандармский унтер-офицер Клюкин убил крестьянина Кривова за святотатство и был отдан под суд. Н. Кравец указывает, что обыски у крестьян по наводкам зачастую проводились с нарушением процессуальных норм. Указывает, что разъяснительная работа в крестьянской среде велась недостаточно тщательно. Например, в 1908 г. поступило огромное количество доносов на то, что крестьяне ругают матом царя, которого должны обожать. Н. Кравец сетует и на наказание для этих крестьян – посадку в курмышскую тюрьму, и на гласный надзор, так как понимает, что эти меры не укрепят в крестьянах любовь к царю1.
Если анализировать служебные переписки и входящие отчёты, то становится ясно, что и в провинциальных ГЖУ дела шли не очень гладко. В отчёте за 1909 г. Симбирской губернии указывается что многие офицеры-жандармы сожительствуют с женщинами вне брака, что было недопустимо для того времени в Российской империи. Также много вопросов вызывает проверка на благонадёжность. При этом в отчете указывается не на то, что у офицеров имелся низкий уровень политической благонадёжности, а на то, что эти самые проверки проводятся поверхностно и невнимательно. Ходатайствуется об увеличении числа чинов и указывается на то, что многие жандармские унтер-офицеры вынуждены выполнять филёрские обязанности. Это говорит о недостатке кадров и необходимости увеличить штат. Большинство жалоб провинциальных жандармов сводились к констатации недостаточной подготовки, некомпетентности сотрудников и их нерасторопности. Практически нигде не указывалось о случаях коррупции, подкупе жандармов и государственной измене. Сказанное позволяет сделать вывод о высоких морально-нравственных качествах провинциальных жандармов и их верности существующему строю2.
Не очень хорошо дела обстояли в ГЖУ и с секретностью. В 1910 и 1911 гг. агенты из бывших мещан и крестьян отказывались от сотрудничества с симбирской жандармерией по причине того, что некоторые их знакомые были под угрозой раскрытия.
Объективные и субъективные причины негативного отношения к жандармам . Ещё одним фактором негативного восприятия жандармов служит то, что их зачастую обобщали со всей политической полицией империи. Ведь в Департамент полиции входило немало различных ведомств, которые должны были следить за общественным порядком. Это была и обычная полиция, и, самое главное, – Охранное отделение. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка или, говоря проще, Охранное отделение, как и Отдельный корпус жандармов, занималось политическим сыском и в некоторых ситуациях являлась конкурирующей организацией по отношению к жандармам (Кравцев, 1999). И вот тут, на наш взгляд, кроется одна из основных причин негативного образа жандармов. Дело в том, что обыватель зачастую не разбирался в государственных органах политической полиции, для него они представляли из себя единое целое. И ОКЖ, и Охранное отделение в его представлении сливались в единый орган, который контролирует жизнь граждан, вмешивается в их дела, ограничивает политические свободы и всячески препятствуют развитию политической жизни в России, при этом пользуясь зачастую довольно нечестными методами. Это справедливо в большей мере к Охранному отделению. Руководство ОКЖ так же, как и основная часть личного состава, состояла из бывших армейских офицеров-выходцев из дворян, которым не чужды были понятия дворянской чести. Это плохо сочеталось с методами, которые должна была использовать политическая полиция.
Ярким примером этого служит деятельность товарища министра внутренних дел и командующего Отдельным корпусом жандармов генерала Владимира Фёдоровича Джунковского. Он был назначен на эту должность в 1913 г. и сразу же начал реформировать службу политического сыска: упразднил районные охранные отделения во всех городах Российской империи, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Варшавы. Также он запретил нанимать секретных сотрудников в армии и на флоте, уволил большое количество жандармских офицеров и ликвидировал агентуру среди учащихся в учебных заведениях. Его деятельность носила неоднозначный характер, так как, с одной стороны, он пытался поставить в определённые рамки агентурную работу, с другой – это подорвало способности политического сыска к поиску и выявлению революционеров (Рууд, Степанов, 1993).
Вспомним, что корпус жандармов был создан в 1827 г. не как сыскное ведомство, а как организация, защищающая самодержавие и охраняющая покой простых людей от революционных потрясений. Единственной политической организацией того времени была организация декабристов, которые практически не скрывали свою деятельность и имели очень слабую конспирацию. По изначальному замыслу жандармы должны были быть некими рыцарями без страха и упрёка, инквизиторами, которые, несмотря на свой зловещий ореол, всё-таки выступали за правое дело – дело защиты государственного строя в эпоху разгула революции. Они действовали прямо и открыто, продолжали гнушаться нечестных методов в своей работе, в первую очередь полагаясь на открытое противостояние.
Совсем по-другому дела обстояли в Охранном отделении. Оно было создано в 1866 г., после того как Дмитрий Каракозов совершил покушение на императора Александра II, открыв тем самым эру революционного народовольческого террора в России. В это время уже появились хорошо организованные и законспирированные политические партии, состоящие из профессиональных революционеров-разночинцев. С такими нужно было работать другими методами – вер- бовать членов, засылать агентов, ввести секретное наблюдение, устраивать провокации и прочее. Подобные методы претили жандармскому начальству, но вполне подходили руководителям охранки. Среди последних было много молодых амбициозных офицеров, пришедших с гражданской службы, желающих выслужиться и построить карьеру. Они понимали дух времени, понимали, что с новыми партиями нужно бороться по-новому и не гнушались в своей работе никакими методами. Они вербовали двойных агентов, выбивали признание, оказывали психологическое и физическое воздействие на арестованных, собирали компромат и шантажировали членов партий, а также устраивали провокации1.
Таким образом, мы видим, что грязными методами ведения политического сыска по большей части пользовалось именно Охранное отделение. Однако в глазах обывателя не было большой разницы между жандармами и охранниками, они приравнивали одних к другим и распространяли на жандармов негативное отношение ко всей политической полиции в целом.
Еще одной важной, на наш взгляд, причиной предвзятого восприятия жандармов являлось то, что они в глазах общества были неотделимы от власти, которую поддерживали. Отдельный корпус жандармов был опорой трона и создан был как государственный институт, охраняющий самодержавие. Но в конце XIX и в начале XX вв. данный политический режим устарел и не отвечал потребностям современного ему буржуазного общества. Самодержавие было продуктом феодальной системы, а император в первую очередь опирался на феодалов, на дворян. Но в начале XX в. последние перестали быть правящим классом, уступив место буржуазии, которая стремительно нарождалась после реформ Александра II. И Первая русская революция 1905 г., и последовавшее за ней введение парламента - Государственной Думы - не могли изменить ситуацию. С одной стороны, народ видел, что Николай II пошел на изменения под нажимом революционных масс. В начале своего правления он высказывался за то, чтобы власть была самодержавной и неразделимой. С другой стороны, граждане убедились в том, что полученные в результате Первой русской революции завоевания власть легко может вернуть назад. Когда состав первой и второй Государственных Дум не понравился императору он, пользуясь тем, что революционное движение пошло на спад, распустил их и, после принятия новых законов, набрал выгодную себе новую Государственную Думу.
Несоответствие абсолютный монархии буржуазному строю как экономическому базису было лишь объективным фактором неприятия самодержавной власти. Но был и субъективный. Это, конечно же, личность Николая II, последнего русского императора. Он не пользовался популярностью в народе, получил от него обидные прозвища и своей деятельностью дискредитировал монархию. Этому способствовала и трагедия на Ходынском поле, и поражение в русско-японской войне, и Кровавое воскресенье, и Ленский расстрел, и влияние Григория Распутина на императрицу. Современники считали его плохим правителем. Даже многие жандармские офицеры, призванные защищать самодержавие, зачастую в своих мемуарах рассказывали, что понимали его несостоятельность и не испытывали уважения к правящему монарху. Естественно, в такой ситуации они не могли убедить в обратном и других людей. Таким образом, ненависть и неуважение общества к монархии и монарху распространились и на тех, кто их защищал, - на жандармов.
Ситуацию усугубила Первая мировая война, которая ухудшила и без того тяжёлое положение жителей империи, показала неподготовленность царской России к войне, некомпетентность военных генералов, неорганизованность тылов, несмотря на храбрость и мужество солдат. К тому же, царскую Россию наводнили агенты разведок Германии и Австро-Венгрии, и жандармам, помимо своей прямой деятельности, приходилось работать ещё и с ними. Это ухудшило и без того плохое отношение к монархии, а следовательно, и к жандармам (Перегудова, 2000).
Заключение . Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что в целом жандармы не заслуживали такого негативного отношения, которое к ним испытывало российское общество начала XX в. В большинстве своём они хорошо выполняли свою работу, стараясь оградить общество и государство от революционных потрясений. Мнение обывателей о них было сформировано общественными взглядами, литературой и публицистикой того времени. На нем сказывалось негативное восприятие монархического строя в целом в начале XX в. Жандармы, призванные охранять этот строй, разделяли неприязнь общества к нему. Но это не могло переломить объективный ход истории. Февральская революция 1917 г. снесла монархию, и ненависть, которая копилась по отношению к самодержавию, распространилась и на жандармов. Последовавшие за этим Октябрьская революция и Гражданская война довершили начатое. В советской историографии и художественной литературе жандарм однозначно стал позиционироваться как жестокий, тупой, слепо преданный самодержавию офицер-держиморда, который душил свободы и мешал обществу развиваться.
Революция и Гражданская война вынудили многих представителей городской интеллигенции бежать из страны, стать эмигрантами, работать на низкооплачиваемых должностях в странах Европы.
Русская эмиграция во время Революции и Гражданской войны – это отдельная трагическая страница Отечественной истории. Но правы ли были те, кто отказывался подавать жандармом руку, считая их профессию недостойной? Осознали ли они, что жандармы были их единственной защитой перед революционными потрясениями, что они ежедневно охраняли покой тех, кто плевал им вслед и говорил о них гадости? Что они думали об этом, работая таксистами в Париже или пытаясь выжить другим способом и заработать на кусок горького эмигрантского хлеба по всему миру? По воспоминаниям многих эмигрантов, они горько сожалели о таком пренебрежительном отношении к жандармам и готовы были отдать многое, лишь бы вернуть всё вспять. Революция для них казалась каким-то весёлым мероприятиям, которые подарит свободу, демократию, парламентаризм, при этом их жизнь изменится только к лучшему. Это упрощённый, обывательский взгляд на произошедшие преобразования. Любому специалисту-историку ясно, что ни одна революция не обходится без тяжёлого периода перестроения общества, когда рушатся привычные социальные институты, отношения, разрушается экономическая система. На свободу выходит огромное количество преступников, и пользуясь разрухой и неорганизованностью, начинает терроризировать мирное население. В конце концов нормальная жизнь возвращается, но для этого нужно переждать определённое время, и далеко не всем это удается. Жандармы как организация погибли вместе с империей, которую они охраняли. И сегодня уже понятно, что, несмотря на всю противоречивость их деятельности, свою работу они выполняли достойно.
Список литературы Отношение российского общества к отдельному корпусу жандармов в начале XX века
- Кравцев И.Н. Тайные службы империи. М., 1999. 192 c.
- Новоселов М.Ю. Губернские жандармские управления: история создания и структура // Молодой ученый. 2014. № 11. С. 286-288. EDN: SJDAJP
- Перегудова З.И. Политический сыск России (1880-1917). М., 2000. 431 с. EDN: FQDDQA
- Рууд Ч.А., Степанов С.А. Фонтанка, 16: Политический сыск при царях. М., 1993. 432 с. EDN: XVXHLT