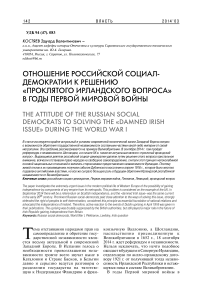Отношение российской социал-демократии к решению "проклятого ирландского вопроса" в годы Первой мировой войны
Автор: Костяев Эдуард Валентинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется крайне актуальный в условиях современной политической жизни Западной Европы вопрос о возможности обретения государственной независимости составных частей какой-либо империи от своей метрополии. Эта проблема рассматривается на примере Великобритании. В сентябре 2014 г. там пройдет референдум о независимости Шотландии, а в начале ХХ в. таким же актуальным являлся «проклятый ирландский вопрос». Выдающиеся деятели российской социал-демократии уделяли путям решения этого вопроса пристальное внимание, всячески отстаивали право народов на свободное самоопределение, считали этот принцип непоколебимой основой национальных отношений и являлись сторонниками предоставления независимости Ирландии. Поэтому живой отклик в их произведениях получили события Дублинского восстания в апреле 1916 г., которое было жестоко подавлено английскими властями, но все же сыграло большую роль в будущем обретении Ирландской республикой независимости от Великобритании.
Российская социал-демократия, первая мировая война, плеханов, левицкий, ирландский вопрос
Короткий адрес: https://sciup.org/170167380
IDR: 170167380
Текст научной статьи Отношение российской социал-демократии к решению "проклятого ирландского вопроса" в годы Первой мировой войны
Тема отстаивания народами прав на самоопределение и обретение государственной независимости является весьма актуальной в современной Западной Европе. В Испании голоса о необходимости провозглашения независимости громче всего звучат ныне в Каталонии и Стране Басков, в Бельгии давно и серьезно ведутся разговоры о разделении государства на тяготеющую к Нидерландам Фландрию и фран- коязычную Валлонию, а Шотландию, насильственно присоединенную к Великобритании в 1652 г., 18 сентября 2014 г. ждет референдум о независимости. Нельзя исключать, что нечто подобное ожидает в будущем и Северную Ирландию, отделенную по англо-ирландскому договору 1921 г. от получившей тогда независимость Ирландской Республики и остающуюся пока в составе Великобритании.
В годы Первой мировой войны в обсуждении подобных вопросов активно участвовали и российские социал-демократы, всячески отстаивавшие право народов на свободное самоопределение и считавшие данный принцип непоколебимой основой национальных отношений. В связи с этим, полагая, в частности, требование независимости ирландского народа бесспорным [Церетели 1963:367], они не могли не откликнуться на события происшедшего 24–30 апреля 1916 г. восстания под руководством лидера Ирландской гражданской армии Джеймса Конноли в Дублине и некоторых других районах Ирландии, главным требованием которого было провозглашение независимой от Великобритании Ирландской республики. Правда, основатель российской социал-демократии Г.В. Плеханов публично осудил Дублинское восстание в статье «Англо-ирландская драма», опубликованной в № 33 газеты «Призыв» от 13 мая 1916 г., поскольку, как отмечается в его письме своему единомышленнику Г. Алексинскому от 26 апреля 1916 г., считал его «германской интригой», впечатление от которой «будет не в пользу союзников»: «Если будет что-нибудь об этом деле в “Temps” или в другой какой-нибудь парижской газете, – читаем мы в нем, – сообщите мне письмом: газет сюда [в Сан-Ремо] кажется не пропускают, если они не идут непосредственно из газетной экспедиции. “Призыву” необходимо печатно высказаться об ирландском деле. И так высказаться, чтобы у возможных русских вспышкопускателей прошла охота прибегать к procedёs [действиям], полезным только для германского империализма. Вы и т. Любимов окажете мне большую услугу, подняв этот вопрос на собрании редакции и сообщите мне об ее решении» [Baron 1981: 351]. При этом совершенно очевидно, что такая реакция Плеханова проистекала из его опасения, что вспыхнувшее во время мирового конфликта восстание в Ирландии могло ослабить военную мощь союзницы России – Великобритании, и вовсе не означала принципиальное непризнание им за ирландцами права на борьбу за национальное самоопределение.
Однако наиболее развернутый анализ тогда еще остававшегося неразрешенным «проклятого ирландского вопроса, завещанного с 1801 года насильственным уничтожением политической автоно- мии Ирландии»1, был проведен в 1918 г. меньшевиком Владимиром Осиповичем Левицким (Цедербаумом). Он считал, что столетие экономического, политического и национального угнетения Англией превращенной в ее колонию Ирландии сделала из некогда цветущего «зеленого острова Эрина» «полунищую страну с ничтожной промышленностью, с вечно голодным закабаленным чужеземным [английским] помещиком крестьянством, с постоянной убылью частью вырождающегося, частью эмигрирующего в Америку населения». Двусторонний лозунг освобождения Ирландии от национального гнета – земельная реформа и гомруль (политичская автономия Ирландии с собственным парламентом) – горячо воспринимался на протяжении ХIХ столетия широкими массами ирландского народа, который вел под этим лозунгом борьбу, жестоко подавлявшуюся английским правительством. Однако борьба эта не осталась совершенно бесплодной, ибо в начале ХХ в. была осуществлена земельная реформа, значительно улучшившая экономическое положение ирландских крестьян-арендаторов. Еще раньше прекратились религиозные и национальные гонения против ирландского народа: «Страна могла теперь свободнее вздохнуть, – говорилось в статье, – но самоуправления, гомруля, собственного пар- ламента Ирландия не получила до настоящего времени» [Левицкий 1918: 14].
При этом много раз английские либеральные правительства (например, выдвигавшее в парламенте в 1886 и 1893 гг. билль о гомруле правительство Гладстона) и парламент склонялись уже к тому, чтобы осуществить давно назревшую и совершенно необходимую в интересах «политического сцепления» Ирландии со всей Великобританией реформу, но каждый раз, отмечал Левицкий, ее срывало «сопротивление английских лэндлордов [помещиков] и протестантского населения Ирландии [большинство ее населения – католики], потомков ее завоевателей». «Так было и перед самым началом войны, когда, казалось, уже был достигнут компромисс между Англией и Ирландией и введение гомруля представлялось вопросом нескольких месяцев». Однако разразившаяся мировая война отодвинула разрешение ирландского вопроса: «Она призвала к участию во власти, – читаем мы в статье, – консервативную партию – противницу гомруля, и она же вызвала рост в Ирландии сепаратистских стремлений [к отделению от Великобритании и образованию самостоятельной Ирландской республики]. Война не была популярна в Ирландии: массам ее населения были чужды те национальные и экономические цели, за которые Великобритания вела войну. Предыдущий гнет не приучил их считать интересы метрополии своими интересами». И то, что правители Англии не провозгласили гомруль при самом возникновении войны, Левицкий считал их «величайшей политической ошибкой»: «Этим была бы сразу выбита почва из под ног сепаратизма, – отмечал он. – Напротив, отказ от проведения гомруля и недовольство чуждой ирландскому народу войной усилили в нем успехи агитации партии “шинфейнеров” [крайних ирландских националистов-сепаратистов]. И весной 1916 г. в столице Ирландии Дублине произошло организованное этой партией восстание, подавленное в крови» [Левицкий 1918: 14].
С точки зрения Левицкого, не подлежало никакому сомнению, что в организации этого восстания принимали участие агенты Германии, во время мирового конфликта не жалевшей денег для поддержки тех революционных движений в различных странах Антанты, в т.ч. в России, которые она могла использовать в своих политических и военных целях. «Но было бы наивно полагать, – одновременно отмечал он, – что Дублинское восстание результат одной только германской “интриги”, как наивно приписывать всю деятельность наших большевиков немецким деньгам. Для восстания почва была достаточно подготовлена всем предыдущим развитием Ирландии и политикой великобританского правительства» [Левицкий 1918: 14].
После жестокого усмирения Ирландского восстания 1916 г. правительство Ллойда Джорджа сделало еще одну попытку провести гомруль. Но в результате бесконечных конференций вождей английских и ирландских политических партий, после заседаний Конвента ирландского народа (самочинного парламента) дело гомруля не продвинулось ни на шаг вперед. Усиление влияния консервативных слоев в ходе войны и отмена благодаря ей многих демократических вольностей не благоприятствовали столь радикальной реформе. Затем под давлением тяжелых затруднений и неудач союзников по Антанте на фронте британское правительство решило распространить на Ирландию действие закона о принудительной военной службе, от которого ее в свое время освободили по тем соображениям, что население Ирландии не склонно было сражаться за Великобританию. «Необходимость выставить новые сотни тысяч воинов, – писал Левицкий, – заслонила в сознании правительства и парламента соображения о политической неосторожности такой меры. Закон о принудительной военной службе для Ирландии вызвал взрыв негодования всех ирландских политических партий, справедливо указывавших, что если ирландский народ не признается достойным гомруля, то он не желает проливать крови за свою мачеху-Англию. Одно время скрывшиеся с политического горизонта шиннфейнеры снова подняли голову» [Левицкий 1918: 14].
Тем временем власти ответили на это репрессиями. В результате подавления беспорядков в Ирландии и проведения обысков английское правительство «разразилось сообщением о раскрытом заговоре, будто бы организованном Германией с целью подорвать военную мощь союз- ников». Против этого огульного, по мнению Левицкого, обвинения решительно протестовала «даже в общем дружественная правительству» Ирландская национальная партия, являвшаяся сторонницей гомруля, но решительной противницей отделения Ирландии. Это также вызвало массовые протесты и многолюдные митинги ирландских эмигрантов в Америке. Всякое правительство, угнетающее подвластные народы и подавляющее их свободу и независимость, отмечалось в статье, «под какими бы широтами оно ни находилось, как бы ни именовалось – царским самодержавием, английской конституционной монархией или советской федеративной социалистической республикой, – склонно в малейшем проявлении против него протеста видеть чужеземную интригу, заговор или преступное восстание». Между тем, какими бы черными красками ни изображали заинтересованные в том классы и группы населения недовольство, проявлявшееся тогда в Ирландии, но пора было «признать старую истину: длительное подавление национальных стремлений без сопротивления со стороны угнетенных есть… сухая вода, чистейшая бессмыслица. Этой истины, – замечал Левицкий, – которой не признавало царское самодержавие, которой не понимают германские империалисты, не могут никак усвоить и кон- сервативные круги Англии» [Левицкий 1918: 14-15].
Ирландский вопрос находился в числе многочисленных «национальных» вопросов, резко обостренных мировой войной. «И если Великобритании удастся выйти победительницей из нее, – задавался он справедливым вопросом в заключении статьи, – как сможет она задержать разрешение ирландского национального вопроса, когда в официальной ее программе, за которую гибнут миллионы английских солдат и их товарищей из других стран, черным по белому значится самоопределение народов (курсив Левицкого. – Э.К. )? Освобождение Европы от угрозы германского империализма, которое будет иметь последствием ее дальнейшую демократизацию, не может не принести с собой для ирландского народа долгожданного им гомруля» [Левицкий 1918: 15].
Отстаивая в годы Первой мировой войны принцип свободного самоопределения наций, видные деятели отечественной социал-демократии не зацикливались на народах Российской империи. Они распространяли эти взгляды и на другие государства, полагая, что на практике данный принцип должен был быть реализован, среди прочего, в виде решения «проклятого ирландского вопроса» через предоставление Ирландии независимости от Великобритании.