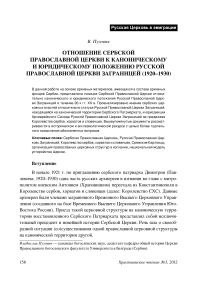Отношение Сербской Православной Церкви к каноническому и юридическому положению Русской Православной Церкви заграницей
Автор: Пузович Владислав
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская Церковь в эмиграции
Статья в выпуске: 3 (44), 2012 года.
Бесплатный доступ
В данной работе на основе архивных материалов, имеющихся в составе архивных фондов Сербии, представлена позиция Сербской Православной Церкви относительно канонического и юридического положения Русской Православной Церкви Заграницей в течение 20-х гг. XX в. Проанализировано мнение сербских церковных властей относительно статуса Русской Православной Церкви Заграницей, находящейся на канонической территории Сербского Патриархата, и юрисдикции Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей за пределами Королевства сербов, хорватов и словенцев. Вышеупомянутые документы рассматриваются в историческом и экклезиологическом ракурсе с целью более тщательного осмысления обозначенных вопросов.
Сербская православная церковь, русская православная церковь заграницей, королевство сербов, хорватов и словенцев, сремские карловцы, организация православных церковных структур в изгнании, национальная модель усторойства церкви
Короткий адрес: https://sciup.org/140189965
IDR: 140189965
Текст научной статьи Отношение Сербской Православной Церкви к каноническому и юридическому положению Русской Православной Церкви заграницей
Вступление
В начале 1921 г. по приглашению сербского патриарха Димитрия (Павловича; 1920–1930) одна часть русских архиереев в изгнании во главе с митрополитом киевским Антонием (Храповицким) переехала из Константинополя в Королевство сербов, хорватов и словенцев (далее: Королевство СХС). Данные архиереи были членами заграничного Временного Высшего Церковного Управления (созданного на базе Временного Высшего Церковного Управления Юго-Востока России). Приезд такой церковной структуры на каноническую территорию восстановленного Сербского Патриархата представлял собой исключительный прецeдент в новейшей истории Сербской Церкви. Речь шла о своеобразной ситуации (со)существования одной православной церковной структуры на канонической территории другой.
Владислав Пузович — кандидат богословских наук, ассистент кафедры общей истории Церкви Православного богословского факультета Университета в Белграде (Сербия).
Проблемой являлся канонический статус вышеупомянутой русской заграничной церковной структуры, который в данный период не был точно определен как во внутреннем русском, так и в общецерковном плане. Одновременно данная церковная структура стремилась создать единую юрисдикцию, которой подчинялись бы все русские беженцы во всем мире. Это дополнительно осложнило позицию Сербской Церкви, перед которой, в силу сложившейся ситуации, встали многочисленные вопросы: каким образом урегулировать канонический статус русской заграничной церковной структуры на канонической территории Сербского Патриархата, как отнестись к стремлению русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления подчинить своей юрисдикции всех русских беженцев во всем мире (что имело прямые последствия в отношении контаков с другими Поместными Православными Церквями), как вести себя относительно внутрирусских церковных разногласий. Это только некоторые из вопросов, которые стояли перед сербскими церковными властями в течение первого десятилетия существования Русской Православной Церкви Заграницей, чье руководство тогда находилось в Сремских Карловцах, на канонической территории Сербской Православной Церкви.
Как оказалось, это был переломный момент в истории Русской Православной Церкви Заграницей. Тогда она отделилась от Московского Патриахата, тогда произошел раскол внутри самой Русской Православной Церкви Заграницей (разрыв Заграничного Архиерейского Синода с митрополитами Евлогием (Георгиевским) и Платоном (Рождественским)), имели место и серьезные конфликты Русской Православной Церкви Заграницей с другими Поместными Православными Церквями (особенно с Константинопольским Патриархатом).
Позицию Сербской Православной Церкви в данной непростой ситуации мы представим на основе архивного материала, хранящимися в архивных фондах Сербии (Архив Священного Архиерейского Синода Сербской Православной Церкви в Белграде, Архив Югославии в Белграде и Архив Сербской академии наук и исскуств в Сремских Карловцах).
Согласие Сербской Православной Церкви на деятельность русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления
Документом, на основе которого был урегулирован статус и деятельность русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления на канонической территории Сербского Патриархата в период между двумя мировыми войнами, является постановление Священного Арихиерейского собора Сербской Православной Церкви от 31 августа 1921 г. (№ 31) 1 . Архиерейский собор вынес постановление, руководствуясь докладом епископа Жичского Ефрема (Боевича), относительно известия митрополита Киевского Антония (Храповицкого) о переезде русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления из Константинополя в Королевство СХС. В своем постановлении Архиерейский собор подчеркнул свою готовность оказать максимальную помощь русским архиереям и русскому народу, оказавшимся в изгнании. Также выражена готовность принять русских священнослужителей на приходскую службу в Сербскую Православную Церковь.
Самая важная часть постановления касается урегулирования статуса русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления. Архиерейский Собор Сербской Церкви «принял под защиту» данное Церковное Управление, предоставив ему право юрисдикции над «русским духовенством вне нашего государства и над русским духовенством в нашем государстве, не состоящим на приходской и государственной учебной службе, как и над военным духовенством в Русской Армии, которое не находится на сербской церковной службе» 2 . Одновременно в ведение русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления были переданы бракоразводные споры русских беженцев 3 .
Анализируя данное постановление Архиерейского собора Сербской Православной Церкви, можно выделить два очень важных момента. Во-первых, ста- тус и уровень полномочия русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления были определены Сербской Церковью. Во-вторых, данное церковное управление, согласно упомянутому постановлению, имело юрисдикцию как над русскими священниками в Королевстве СХС (не стоящими на службе в Сербской Церкви), так и над русскими священниками в изгнании, пребывающими в других странах. Данное постановление, без всякого сомнения, отражало глубокую заботу о русских братьях в изгнании. Надо принимать во внимание и хорошие сербско-русские церковные отношения в предыдущий период, как и тот факт, что многие влиятельные сербские архиереи, участвовавшие в принятии данного постановления, чувствовали большую привязанность к Русской Церкви, так как были выпускниками русских духовных академий4.
Однако постановление Архиерейского собора Сербской Православной Церкви многие вопросы оставило нерешенными. О некоторых из них писал известный русский юрист Сергей Викторович Троицкий в своей статье «Правовое положение Русской Церкви в Югославии», опубликованной в 1939 г. в Бел-граде5. Анализируя канонический и юридический статус Русской Православной Церкви Заграницей в Королевстве Югославии, основывающийся на постановлении Архиерейского собора Сербской Православной Церкви от 31 августа 1921 г., С.В. Троицкий высказывает мнение, что русская заграничная церковная структура в Королевстве Югославии на самом деле является «филиалом Сербской Церкви»6. Троицкий подчеркивает, что в данном постановлении Сербской Церкви усматривается ряд «существенных пробелов», в том числе и неурегулированное положение русских заграничных епархиальных и приходских структур. Все это, при неурегулированном статусе Русской Православной Церкви За- границей в рамках государственной системы Королевства Югославии, по мнению С.В. Троицкого, должно было привести к постепенному сужению полномочий Русского Заграничного Архиерейского Синода, и даже к полному упразднению русской заграничной церковной структуры на канонической территории Сербского Патриархата.
Анализируя сербско-русские конфликты, касающиеся сербско-русских бракоразводных процессов, как и недоразумения относительно обложения церковными налогами русских беженцев, С.В. Троицкий, критикуя Сербскую Церковь, подчеркивает, что «не может же одна церковь, в государстве, где существует свобода веры и совести, перечислять в свой состав членов другой церкви без их на то согласия» 7 .
Конечно, необходимо принять во внимание, что такая точка зрения известного русского юриста отражала его принципиальное мнение, что основная модель устройства и организации церковной структуры зиждется на национальном, а не поместном (территориальном) принципе 8 . Поэтому для него проблема параллельного сосуществования на одной и той же территории двух православных церковных структур, в основу которых заложен национальный принцип, лишена актуальности. Однако именно в том-то и заключалась основная эк-клезиологическая проблема, касающаяся фукционирования русской заграничной церковной структуры на канонической территории Сербского Патриархата. Сербская Церковь, принимая упомянутое постановление о статусе русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления, руководствовалась принципом церковной икономии, принимая во внимания трагическое положение русской иерархии и народа. Но со временем становилось ясно, что такое решение, исходящее из национальной модели церковного устройства, порождало многочисленные канонические и экклезиологические проблемы.
Большая часть проблем, о которых писал профессор Троицкий, возникала не только из-за недочетов (какие он усматривал) в постановлении Сербской Церкви от 1921 г., а, в первую очередь, из-за сложного в экклезиологическом плане факта сосуществования на одной и той же территории двух параллельных православных церковных структур. Поэтому время от времени наблюдалось от- сутствие четкого разграничения юрисдикционных полномочий сербского и русского Синодов. Помимо конфликтов, упомянутых С.В. Троицким (бракоразводные процессы, обложение церковными налогами), были и другие случаи, наподобие случая, имевшего место в 1925 г., когда Сербский Синод запретил Русскому Заграничному Синоду присуждать награды русским священникам, стоящим на службе в Сербской Церкви9 .
Сосредоточивая вновь свое внимание на постановлении Архиерейского собора Сербской Православной Церкви от 1921 г., можем заметить еще один очень существенный момент. А именно, согласно данному постановлению Сербской Церкви русскому заграничному Временному Высшему Церковному Управлению была предоставлена юрисдикция над русскими священнослужителями «вне нашего государства», то есть за пределами Королевства СХС (с 1929 г. Королевства Югославии). Такое решение ставило Сербскую Церковь в положение покровителя юрисдикции русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления над всеми русскими беженцами во всем мире, включая территории других Поместных Православных Церквей. Осознавая каноническую ущербность такого решения, сербские церковные власти позднее, ссылаясь на упомянутое постановление, опускали слова «вне нашего государства» 10 .
Несмотря на перечисленные сложности между сербским и русским заграничным Синодами, остается фактом, что сербские церковные власти были главным защитником прав Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей в Сремских Карловцах в 20-е гг. XX в., когда речь шла о требованиях, предъявляемых государственными органами Королевства СХС (Югославии), так и когда речь шла о требованиях, предъявляемых церковными властями других Православных Церквей.
Отношение Сербской Православной Церкви к каноническому и юридическому положению Русской Православной Церкви Заграницей
В 20-е гг. прошлого столетия Сербской Православной Церкви не раз приходилось, выступая покровителем Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей, высказываться по отношению к каноническому и юридическому статусу упомянутой церковной структуры, а также и относительно ее юрисдикции в пределах и за пределами Королевства СХС. Упомянем некоторые из документов, на основании которых можно восстановить основные положения сербских церковных властей относительно канонического и юридического статуса Русской Православной Церкви Заграницей, чье управление находилось в Сремских Карловцах. Данные документы были написаны в течение этого же периода при различных обстоятельствах.
Первый из них представляет собой ответ сербского патриархата на письмо Министерства внешних дел Королевства СХС, касающийся правовых компетенций русского заграничного Архиерейского Синода в Греции (то есть на канонической территории другой Поместной Православной Церкви). Данное письмо Министерство внешних дел отправило 28 апреля 1922 г. 11 В письме Министерство обращалось к сербскому патриархату с просьбой уточнить на каких условиях Сербская Православная Церковь признала законным русское заграничное Временное Высшее Церковное Управление в Сремских Карловцах. В том же письме поставлен вопрос границ установленных компетенций вышеупомянутого церковного управления. Данные вопросы возникли в связи с обращением Посольства Королевства СХС в Афинах, в котором упоминается тот факт, что русское заграничное Временное Высшее Церковное Управление в Сремских
Карловцах через русского посланника в Афинах уведомило греческие власти о том, что только данному церковному управлению подвластны все русские бе-женцы 12 . Сербская Церковь в письменном виде ответила 2 мая 1922 г. 13 В этом письме указано, что русское заграничное Временое Высшее Церковное Управление существует согласно полномочиям, предоставленным ему Московским Патриархатом, и на основании этих полномочий курирует церковные дела, касающиеся колоний русских беженцев в Европе, Америке, Азии и Африке 14 . Что же касается положения упомянутого церковного управления на канонической територии Сербской Церкви, указано, что Сербская Церковь разрешила его деятельность только в отношении колоний русских беженцев. Когда речь идет о компетенциях русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления в Греции, Сербская Церковь считает, что данное церковное управление, ради разрешения выдвинутого вопроса, должно обратиться к греческим церковным властям 15 .
Необходимо сказать, что такое отношение Сербской Церкви к полномочиям Московского Патриархата, касающихся существования русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления, сформировано на основании обращения, до этого (30 июля 1921 г.) направленного митрополитом Антонием (Храповицким) сербскому патриарху Димитрию (Павловичу), в котором указано, что патриарх Тихон одобрил деятельность русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления16. К тому же, свое отношение Сербская Церковь высказала 2 мая 1922 г., то есть за нескольно дней до принятия решения патриархом Тихоном о упразднении русского заграничного Временного Высшего Церковного Управления (Постановление № 348, от 5 мая 1922 г.)17. Помимо того, Сербская Церковь, подчеркнув, что статус русской заграничной церковной структуры в Греции находится в компетенции только греческих церковных властей, правильно поступила с канонической точки зрения.
Самый важный документ Сербской Православной Церкви, восходящий к 20-м гг. XX в., говорящий об отношении к каноническому положению Русской Православной Церкви Заграницей, является письмо-ответ Архиерейского собора Сербской Православной Церкви, направленное Константинопольскому Патриархату 9 декабря 1924 г. 18 Данный документ, как только что было сказано, является ответом Сербской Церкви на требование Константинопольского Патриархата (от 24 мая 1924 г.) закрыть Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей как неканоническую церковную структуру 19 . В данной сложной ситуации Сербская Церковь встала на защиту Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей как относительно каноничности его существования, так и относительно каноничности его юрисдикционных компетенций.
Первая часть ответа Архиерейского собора Сербской Православной Церкви посвящена каноническому статусу русской заграничной церковной структуры на канонической территории Сербского Патриархата. Подчеркивая неотъемлемые права сербских церковный властей «организовывать церковную власть по своему свободному усмотрению» на своей канонической территории, Архиерейский собор считает, что принятием русских беженцев и предоставлением согласия на деятельность русского заграничного церковного управления, «оправдал свое апостольское призвание», принимая во внимание тот факт, что русские архиереи и священники лучше всех знают потребности и церковные обычаи русского народа, оказавшегося в изгнании20. Потом уточняется, что сфера деятельности Русского Заграничного Архиерейского Синода в Срем-ских Карловцах охватывает только русские колонии на канонической территории Сербской Церкви, при чем под упомянутой канонической территорией здесь имеются в виду не только территория Королевства СХС, а и территории, которые «уже несколько веков» находятся под юрисдикцией Сербской Церкви (территории Австрии, Венгрии, Чехословакии)21.
Во второй части вышеупомянутого ответа высказывается мнение Сербской Церкви относительно юрисдикции Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей на территории Центральной и Западной Европы (Германия, Франция и Англия). Особо подчеркивается, что речь идет о миссионерских территориях, на которых не существует организованной православной церковной структуры. Поэтому вполне «естественно и в согласии с канонами», чтобы на таких территориях церковное управление над каким-либо православным народом осуществлялось «ближайшей церковной властью» этого народа. Когда же речь идет о русских беженцах, данную функцию должен выполнять Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей, принимая во внимание тот факт, что у Московского Патриархата нет возможности поддерживать контакты с русскими беженцами 22 . В конце Архиерейский собор Сербской Церкви подчеркивает, что лишить миллионы православных русских организованной русской церковной власти — пастырски безответственно и таким образом русские беженцы подвергаются «большой опасности, ставящей под угрозу их веру и их жизни» 23 .
При анализе ответа Сербской Православной Церкви Констатинопольско-му Патриархату становится ясно, что сербские церковные власти во главу угла ставили пастырское попечение о русских беженцах, считая, что русскоязычных верующих никто не может окормлять лучше русских архиереев и священнослужителей. С другой стороны, такой ответ Сербской Церкви отражал ее принципиальную позицию в отношении актульных канонических и экклезиологических вопросов Православной Церкви в упомянутый период. Сербская Церковь считала, что основная организационная модель православных церковных структур носит национальный характер, как на канонических территориях Поместных
Там же.
Там же.
Там же.
Православных Церквей, так и среди православной диаспоры. Можно констан-тировать, что такая позиция в те времена была преобладающей в православном мире, и вытекала из характерного для данного периода восприятия Церкви как высшей национальной инстанции.
Три года спустя (1927 г.) во время раскола между Архиерейским Синодом Руской Православной Церкви Заграницей и митрополитом Евлогием (Георгиевским) Сербской Православной Церкви снова пришлось аргументировать свою позицию относительно канонического положения Русского Синода в Сремских Карловцах и его юрисдикции, но на сей раз в Чехословакии. Посольство Чехословакии в Белграде направило ноту Министерству по делам религии Королевства СХС (№ 30/I/ 27, от 12 января 1927 г.), в которой был поставлен вопрос о статусе и компетенциях Русского Заграничного Архирейского Синода 24 . А именно ставился вопрос о том, подпадает ли русская заграничная церковная структура в Королевстве СХС под юрисдикцию Сербского Патриархата. Если не подпадает, возникает вопрос, в чьей юрисдикции она находится — митрополита Антония (Храповицкого) или митрополита Евлогия (Георгиевского)? Помимо того, задается вопрос в связи с компетенциями митрополита Антония 25 . Все эти вопросы были выдвинуты в связи с ситуацией в Чехословакии, в которой тогда сосуществовало несколько православных юрисдикций: константинопольская, сербская, русская. Власти Чехословакии хотели узнать позицию сербских церковных властей 26 относительно юрисдикции над русскими беженцами в Чехословакии, из-за которых возникли серьезные конфликты между Архиерейским Синодом Русской Православной Церкви Заграницей и митрополитом Евлогием. Таким образом, Сербской Церкви пришлось косвенно выразить свое мнение относительно упомянутых внутрирусских заграничных церковных расхождений.
Свой ответ на письмо Министерства по делам религии Королевства СХС 27 Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви направил 9 июня 1927 г. 28 В нем указано, что у Русской Православной Церкви Заграницей на территории Королевства СХС «особая церковно-иерархическая организация, которую возглавляет Священный Архиерейский Синод Русской Православной Церкви» и что данная церковная структура «не подвластна юрисдикции Сербской Православной Церкви». Под юрисдикцией Сербской Православной Церкви находятся только те русские священнослужители, которыи состоят на церковной службе в Сербской Церкви, и те русские беженцы, которые приняли гражданство Королевства СХС 29 . В последующей части своего ответного письма Сербская Церковь поддерживает компетенции Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей. Во-первых, особо выделяется тот факт, что русская заграничная церковная структура на территории Королевства СХС находится под юрисдикцей Архиерейского Синода, возлавляемого митрополитом Антонием (то есть не подвластна митрополиту Евлогию). Во-вторых, указано, что вышеупомянутым Архиерейским Синодом время от времени созывается Архиерейский собор, членами которого являются русские епископы в изгнании, не проживающие на территории Королевства СХС. На этом основании сербские церковные власти приходят к выводу, что юрисдикции вышеупомянутого синода подвластны и русские беженцы, проживающие вне границ Королевства СХС 30 .
Таким образом, Сербская Православная Церковь продолжала оказывать поддержку Русскому Заграничному Архиерейскому Синоду в Сремских Кар-ловцах. Однако с углублением разногласий между данным Синодом и митрополитом Евлогием нарастало давление на Сербскую Церковь с целью ограничить компетенции Русского Синода в Сремских Карловцах. А именно митрополит
Евлогий в марте 1927 г. направил письмо главам некоторым из Православных Церквей с просьбой оказать ему поддержку в полемике с Карловацким Синодом. Его, в частности, поддержали патриарх Константинопольский Василий III, патриарх Александрийский Мелетий II и афинский архиепископ Хризостом 31 . Эти архиереи особо подчеркивали самопровозглашенность Русского Синода в Сремских Карловцах и неканоничность его деятельности. На основании их положений можно было прийти к выводу, что Сербская Церковь обладает полномочиями и что на ней лежит ответственность за вышеупомянутый Синод 32 . Особенно резким был александрийский патриарх Мелетий II (Метаксакис). Он в своем письме митрополиту Антонию (Храповицкому) от 5 июля 1927 г. 33 отвергал каноническую законность Арихерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей, утверждая, что данный Синод, согласно каноническому праву, может иметь полномочия только на той части канонической территории Сербского Патриархата, где Сербская Церковь свои компетенции передала Русскому Синоду 34 .
Чувствуя за собой такую поддержку и считая себя единственным законным представителем Русской Церкви за границей,35 митрополит Евлогий с 1927 г. до 1929 г. не раз письменно обращался к сербским церковным властям с просьбой запретить Карловацкому Архиерейскому Синоду вмешиваться в дела Русской Церкви в Европе36. Учитывая сложившуюся обстановку, пози- цию Сербской Церкви можно охарактеризовать как сдержанную. Одновременно она не перекращает покровительствовать Архиерейскому Синоду Русской Православной Церкви Заграницей. Архиерейский синод Сербской Православной Церкви 21 июля 1928 г. (постановление № 1415) поручил Архиерейскому Собору решить, существует ли необходимость «вмешиваться в конфликт между Священным Архиерейским Синодом Русской Православной Церкви в Сремских Карловцах и митрополитом Русских Церквей в западной Европе», напоминая при том, что Архиерейский собор Сербской Церкви в 1920 г. уже принял постановление о статусе Русского заграничного церковного управления, возглавляемого митрополитом Антонием37. В том же 1928 г. 28 октября Архиерейский собор Сербской Церкви принял следующее постановление относительно полемики вокруг Русской Церкви Заграницей: «Священный Архиерейский Собор не будет рассматривать данный вопрос, так как он уже решен постановлением Священного Архиерейского Собора от 1920 года»38. Отметим, что в данном постановлении сербских церковных властей, очевидно, по ошибке указан неверный год принятия постановления о статусе русской заграничной церковной структуры (вместо 1921 указан 1920 г.), вполне ясно, что Сербская Церковь, вопреки сильному давлению, решила заступиться за позицию Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей в Сремских Карловцах.
Необходимо упомянуть еще один важный документ, в котором сербская церковная власть ссылается на каноническое Предание Церкви в связи с каноническим положением Русской Православной Церкви Заграницей. В своем ответе Министерству по делам религии Королевства СХС от 6 декабря 1927 г. относительно полномочий Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей по поводу бракоразводных процессов между русскими беженцами, Архиерейский собор Сербской Православной Церкви дал следующее сообщение: «Согласно канонам Святой Православной Церкви православная иерархия, оказавшаяся вместе со своей паствой в изгнании и прибыв на территорию другой автокефальной церкви, имеет право на самостоятельную управленческую деятельность. Таким образом данное право надо признать и за Русской церковной иерархией на территории Сербской Церкви, конечно, при защите и наблюдении со стороны Сербской Церкви»39. Сербские церковные власти, несомненно, здесь имели в виду, между прочим, 39 канон Пятого-Шестого Трулльского собора (691/692), на который, помимо прочего, часто ссылались представители Русской Православной Церкви Заграницей40. Не вдаваясь глубже в аналогии с «кипрским случаем», происшедшим в VII в., и «русским случаем», происшедшим в XX в., нужно подчеркнуть, что позиция Сербской Церкви исходила из национальной модели организации Церкви. На этом же основании толковались отдельные каноны, в частности упомянутый канон Пятого-Шестого собора. По толкованию 39 канона, подразумевающего этническую или же поместную (территориальную) модель устройства церковной структуры, участники «русского заграничного церковного вопроса», в течении 20-х гг. XX в., не пришли к единому мнению.
Выводы
Возникновение Русской Православной Церкви Заграницей представляло собой прецедент в истории христианства. Никогда ни одна церковная структура не назвала себя «заграничной». Документы, рассмотренные в данной работе, свидетельствуют о позиции Сербской Православной Церкви по отношению к упомянутому прецеденту в период 20-х годов XX в., когда в православном мире возникло много канонических и экклезиологических вопросов, по сей день являющихся нерешенными в межправославных отношениях. Один из таких вопросов касался способа организации православной церковной структуры вне центральной канонической территории (изгнание, рассеяние). «Русский заграничный церковный вопрос» — суть данной проблемы. В сущности, речь шла о выборе одного из двух концептов организации церковной структуры: поместного (территориального) и национального. К этому добавляется и аспект пастырского попечения, который в русском случае связан с трагедией эмиграции, а также реальное положение вещей в то время в Православных Церквях, чьи устремления были во многом связаны с национальными устремлениями определенных православных народов.
В данном контексте позиция Сербской Православной Церкви относительно канонического и юридического положения Русской Православной Церкви Заграницей становятся ясной. Руководствуясь, в первую очередь, пастырским попечением, Сербская Церковь считала, что лучшим способом устройства церковной жизни русских беженцев является формирование русской заграничной церковной структуры. Однако такая позиция иногда вызывала различные недо-розумения как между сербскими и русскими заграничными церковными властями, так и между сербскими церковными властями и церковными властями других Православных Церквей. Конечно, необходимо принимать во внимание тот факт, что сербские и русские заграничные церковные власти воспринимали это как временное решение, которое должно было оставаться в силе только до скорого упразднения большевисткого режима в России. Но поскольку этого не произошло, проблемы стали усложняться.
Экклезиологический вопрос организации православных церковных структур вне традиционных православных территорий не потерял своей актуальности по сей день, что потверждают проблемы в связи с устройством Церкви в диаспоре. Поэтому очень важно пролить свет на тот период, когда данные проблемы остро стояли на повестке дня в Православной Церкви. Уточнение позиции Сербской Православной Церкви относительно канонического и юридического положения Русской Православной Церкви Заграницей в 20-е гг. XX в. поможет лучше понять это время.
Источники (неопубликованные)
-
1. Архив Светог архијерејског синода Српске православне Цркве (Београд), Рад Светог архијерејског сабора Српске патријаршије 1920–1936 — запис-ници.
-
2. Архив Светог архијерејског синода Српске православне Цркве (Београд), папка: Руска загранична Црква — историја.
-
3. Архив Светог архијерејског синода Српске православне Цркве (Београд), папка: Руска православна Црква у иностранству 1921–1932.
-
4. Архив Српске академије наука и уметности (Сремски Карловци), Синод — записници са седница 1925, 1927, 1928.
-
5. Архив Југославије (Београд), фонд: Министарство вера Краљевине Југо-славије 69, папка: 175.
-
6. Государственный архив Российской Федерации — ГАРФ (Москва), Фонд 6343 — Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей.
Источники (опубликованные)
-
1. Акты Святейшего Тихона, патриарха московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943 // Сост. М.Е. Губонин. Москва, 1994.
-
2. К делу о «Всезаграничном Высшем Русском Церковном Управлении» (Следствие над архиеп. Анастасием, Александром и др.) — документы. Константинополь, 1924.
-
3. Письма константинопольского патриарха Василия III (без даты), александрийского патриарха Мелетия II (№ 843, от 3/16 апреля 1927 года) и афинского архиепископа Хрисостома (от 22 марта 1927 года) митрополиту Ев-логию (Георгиевскому) // Церковный вестник Западноевропейской епархии. 1927. № 1. С. 3–7.
-
4. Окружное послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей, от 1 августа 1933 года // Церковная жизнь. 1933. № 8. С. 137–159.
-
5. Письмо митрополита Антония заместителю местоблюстителя московского патриаршего трона митрополиту Сергию, от 6/19 мая 1933 года // Церковная жизнь. 1933. № 8. С. 161–165.
Список литературы Отношение Сербской Православной Церкви к каноническому и юридическому положению Русской Православной Церкви заграницей
- Акты Святейшего Тихона, патриарха московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917-1943//Сост. М.Е. Губонин. Москва, 1994.
- К делу о «Всезаграничном Высшем Русском Церковном Управлении» (Следствие над архиеп. Анастасием, Александром и др.) -документы. Константинополь, 1924.
- Письма константинопольского патриарха Василия III (без даты), александрийского патриарха Мелетия II (№ 843, от 3/16 апреля 1927 года) и афинского архиепископа Хрисостома (от 22 марта 1927 года) митрополиту Евлогию (Георгиевскому)//Церковный вестник Западноевропейской епархии. 1927. № 1. С. 3-7.
- Окружное послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей, от 1 августа 1933 года//Церковная жизнь. 1933. № 8. С. 137-159.
- Письмо митрополита Антония заместителю местоблюстителя московского патриаршего трона митрополиту Сергию, от 6/19 мая 1933 года//Церковная жизнь. 1933. № 8. С. 161-165.
- Атанасије (Јевтић), еп. Свештени канони Цркве. Београд. 2005.
- Никодим (Милаш), еп. Правила Православне Цркве са тумачењима. Т. 1. Нови Сад. 1895.
- Поповић Р. Прилог историји Чехословачке православне Цркве између два светска рата//Гласник Српске православне Црква. 2006. № 12. С. 316-326.
- Радић Р. Српска православна Црква и Православље у Чехословачкој//Токови историје. 1997. № 1-2. С. 93-105.
- Сава (Вуковић), еп. Српски јерарси од деветог до двадесетог века. Београд, Подгорица, Крагујевац. 1996.
- Троицкий С.В. Правовое положение Русской Церкви в Югославии//Записки русского научного института в Белграде. 1940. № 17. С. 93-124.