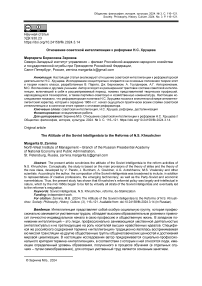Отношение советской интеллигенции к реформам Н.С. Хрущева
Автор: Зернина М.Б.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья анализирует отношение советской интеллигенции к реформаторской деятельности Н.С. Хрущева. Исследование концептуально опирается на основные положения теории элит и теории нового класса, разработанные В. Парето, Дж. Бернхэмом, А. Гоулднером, А.Г. Авторхановым, М.С. Восленским и другими учеными. Автор исходит из расширенной трактовки состава советской интеллигенции, включавшей в себя в рассматриваемый период, помимо представителей творческих профессий, нарождающуюся технократию, а также партийно-советскую и хозяйственную номенклатуру. Настоящее исследование показало, что реформаторская политика Н.С. Хрущева носила в значительной мере антиинтеллигентский характер, который к середине 1960-х гг. начал ощущаться практически всеми слоями советской интеллигенции и в конечном итоге привел к отставке реформатора.
Советская интеллигенция, н.с. хрущев, реформы, десталинизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149144995
IDR: 149144995 | УДК: 930.23 | DOI: 10.24158/fik.2024.3.14
Текст научной статьи Отношение советской интеллигенции к реформам Н.С. Хрущева
Целью данной статьи является анализ отношения советской интеллигенции к реформаторской деятельности Н.С. Хрущева – десталинизации общественной жизни, реформированию системы административного управления, развитию экономики и социальной сферы, экспериментам в аграрной политике.
Методология исследования . Настоящее исследование концептуально опирается на основные положения теории элит и теории нового класса, разработанные В. Парето, Дж. Бернхэмом, А. Гоулднером, А.Г. Авторхановым, М.С. Восленским и другими учеными.
По мнению итальянского социолога В. Парето, политической организацией общества управляет организованное профессиональное меньшинство (политическая элита), отбираемое в разные исторические эпохи по различным критериям (происхождение, образование, способно сти, опыт и т. д.). Важнейшим критерием для включения в элиту является способность управлять, наличие знаний о ментальности народа, о его национальном характере (Парето, 2011). Для удержания власти элита наряду с силой использует «ресурс согласия», то есть способность убеждать массы в своей правоте, манипулируя их чувствами и эмоциями, что требует определенных профессионально-образовательных навыков для сближения ее с интеллигенцией.
Согласно мнению сторонников теории нового класса в современном обществе с середины XX в. появляется третий (или «новый») класс, известный как интеллигенция. Этот класс включает в себя научно-техническую интеллигенцию, которая занимается развитием производства и технологий, а также интеллектуалов, включая гуманитарную интеллигенцию, которая ориентирована на политические вопросы. Таким образом, в социальной структуре появляется новый класс, помимо традиционных классов буржуазии и пролетариата. По утверждению американского социолога А. Гоулднера, в процессе своей профессиональной деятельности «новый класс» вырабатывает особый тип мировоззрения («культуру критического дискурса»), а характерной особенностью его идеологии является профессионализм, то есть наличие достоверных знаний о природе и обществе и умение применять эти знания на практике (Ходанович, 2022: 206–207).
По мнению американского политического философа Дж. Бернхэма, во второй половине XX в. технократы входят в состав политической элиты общества. Однако путь к политическому господству им преграждает не только «денежный класс» (крупные собственники), но и бюрократическое чиновничество (профессиональные управленцы) и политические выдвиженцы, поставленные «денежным классом» либо правящей политической партией контролировать бюрократию (Бернхэм, 1954).
Наряду с западными государствами «новый класс» сформировался в СССР в виде партийно-советской номенклатуры. При этом, согласно мнению А. Гоулднера, попадая в партийносоветский аппарат, советские интеллектуалы подчинялись партийной дисциплине и превращались в «партийных бюрократов», отрывавшихся от «нового класса» своими интересами и условиями жизни, поскольку КПСС изначально была сконструирована для ограничения культуры критического дискурса в обществе (Ходанович, 2022: 208). Тематику взаимоотношения КПСС с советской интеллигенцией развил в 1950–1970-х гг. американский советолог А.Г. Авторханов, по утверждению которого Советским Союзом реально управляла не Коммунистическая партия и даже не её уставные органы (ЦК или Политбюро), а внутренняя партийная канцелярия генерального секретаря, которая подготавливала решения уставных органов партии, используя также возможности органов госбезопасности для политического контроля и репрессий против советского общества и интеллигенции в самой партии (Авторханов, 1991).
По словам советского историка и социолога М.С. Восленского, партийная номенклатура в первую очередь осуществляла политическое руководство обществом, а руководство материальным производством, являвшимся для КПСС вторичной задачей, было частично делегировано советской технократической интеллигенции (Восленский, 2005).
Результаты . К началу XX в. российская интеллигенция несла в себе ценности социального мессианства: гражданскую ответственность за судьбу Отечества, восприятие самой себя как носителя общественной совести, способность к нравственному сопереживанию «простому народу».
После Октябрьской революции 1917 г. на роль нового «мессианского класса», «коллективной совести» и авангарда российского общества вместо интеллигенции выдвинулась коммунистическая партия большевиков (до 1952 г. – ВКП(б), затем – КПСС). Ценой огромных человеческих жертв и материальных издержек партийное руководство СССР во главе с И.В. Сталиным проводило в 1930-е гг. социалистическую реконструкцию народного хозяйства, т. е. форсированную индустриализацию и принудительную коллективизацию. Одновременно с этим проводилась и зачистка общества от старой дореволюционной интеллигенции, способной выдвинуть альтернативный курс развития страны.
Органы госбезопасности в 1920-х – начале 1930-х гг. направляли ВКП(б) политические «дела» против небольшевистской интеллигенции. Это привело к чисткам среди руководителей и специалистов промышленности, ученых-аграрников и экономистов, сотрудников АН СССР, командиров Красной Армии из числа генералов бывшей царской армии. «Большой террор» 1937–1938 гг. позволил «изъять» из советского общества значительную часть «старой партийной гвардии», составлявшей к тому времени ядро партийно-советского и хозяйственного управленческого класса, а также руководящего состава силовых органов. В послевоенный период превентивные репрессии затронули также генералитет Советской армии, руководство оборонно-промышленного комплекса, органов госбезопасности, медицинской науки, ряд региональных партийно-советских кланов.
Одновременно с этим в 1920–1940-е гг. путем ускоренного обучения в высших и средних профессиональных и партийно-советских учебных заведениях сформировалась новая советская интеллигенция, лояльная к ВКП(б). Наряду с когнитивными качествами (способностью к обучению и рефлексии) доступ в нее начинал определяться партийностью, «правильным» социальным происхождением и способностью к социальному конформизму и мимикрии. По довольно радикальному мнению советского писателя В.Ф. Тендрякова, советская интеллигенция к началу 1950-х гг. была превращена «в безропотную прислужницу, покорно выполняющую – чаще тупо, очень редко даровито и изобретательно – правительственные заказы от создания новых бомбардировщиков до “философского” обоснования великой научной ценности сталинских работ по языкознанию» (Тендряков, 1989: 303).
Таким образом, к началу «великого десятилетия» Н.С. Хрущева (1953–1964) советская интеллигенция носила неоднородный характер и включала в себя несколько социальных страт:
-
– творческую интеллигенцию, работающую в сфере культуры, искусства и науки: писателей, артистов, художников, музыкантов, скульпторов, ученых и т. д.;
-
– технократическую интеллигенцию, работавшую в отраслях материального производства и социальной сферы, а также в сфере государственного управления, национальной обороны, безопасности и правоохраны: инженеров, агрономов, учителей, врачей, преподавателей вузов, работников финансовых, судебных и административных органов;
-
– номенклатуру – управленческие кадры партийно-советских органов, общественных организаций и хозяйственных структур: освобожденных партийных, комсомольских, профсоюзных работников, генералитет Вооруженных Сил, МВД, КГБ, директоров промышленных, строительных предприятий, крупных совхозов, научно-исследовательских институтов, ректоров вузов и т. д.
Обсуждение . Десталинизация, представлявшая собой контролируемый руководством СССР демонтаж наиболее одиозных институтов сталинского режима (системы политических репрессий и принудительного труда), наложила отпечаток на духовную жизнь советской интеллигенции, породив надежды на либерализацию.
В этот период вышли в свет главные «оттепельные» произведения советской литературы: повесть И.Г. Эренбурга «Оттепель», в которой осуждается двойная мораль сталинского периода, а также конформизм и привычка к подчинению перед очевидно несправедливыми решениями начальства; роман В.А. Дудинцева «Не хлебом единым», в котором советский интеллигент-инноватор отказывается становиться частью бюрократической системы; повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», открывающая советским читателям «лагерную правду».
В 1953–1964 гг. появились советские «оттепельные» поэты и барды – А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, В.С. Высоцкий, А.А. Галич, Б.Ш. Окуджава. При этом, например, А.А. Вознесенский и Е.А. Евтушенко, несмотря на периодическую критику со стороны партийных властей, сочетали успешность в официальной советской системе (члены Союза писателей СССР, лауреаты государственных премий, орденоносцы, власти разрешали им зарубежные командировки), с участием в неподцензурных изданиях.
В этот период переживал ренессанс советский театр. В 1956 г. в Москве молодыми выпускниками Школы-студии МХАТ и других театральных вузов столицы (О.Н. Ефремов, Г.Б. Волчек, И.В. Кваша, Е.А. Евстигнеев, О.П. Табаков и др.) был основан новый театр «Современник». В Московский театр на Таганке главным режиссером пришел выдающийся театральный педагог А.П. Любимов, под руководством которого театр стал самым авангардным в СССР. В Ленинграде Большой драматический театр в 1956 г. возглавил великий театральный режиссер Г.А. Товстоногов.
В середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. в советском кинематографе вышли «оттепельные» фильмы, которые задали новый формат взаимоотношений государства с человеком. В кинофильмах «Солдаты» (1956 г., режиссер – А.Г. Иванов, по мотивам повести В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда») и «Чистое небо» (1961 г., режиссер – Г.Н. Чухрай) показана «теневая правда» о Великой Отечественной войне: самоубийственные приказы советского командования, выполняя которые в бессмысленной контратаке гибнет половина батальона, и недоверие сталинского общества к прошедшим фашистский плен советским военнослужащим. В кинокартинах «Карнавальная ночь» (1956 г., режиссер – Э.А. Рязанов), «Жених с того света» (1958 г., режиссер – Л.И. Гайдай), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964 г., режиссер –
Э.Г. Климов) были высмеяны попытки советской бюрократии всесторонне регламентировать жизнь советского общества и одновременно показана вера молодежи в то, что «счастье обязательно будет». Кинофильм «Девять дней одного года» (1961 г., режиссер – М.И. Ромм) стал манифестом советской научно-технической интеллигенции: прорывные открытия физиков, оплаченные смертельным облучением главного героя, представлены как путь к новому, «светлому», высокотехнологичному будущему, в котором скоро будут жить советские люди. Оптимизмом нового поколения советской молодежи наполнен вышедший на киноэкран в 1964 г. фильм «Я шагаю по Москве» (режиссер – Г.Н. Данелия). Его символом стала песня «Бывает всё на свете хорошо…», спетая героем актера Н.С. Михалкова. Фильм «Застава Ильича» (вышел на экран в 1965 г. под названием «Мне двадцать лет») режиссера М.М. Хуциева заканчивается сценой смены часовых у мавзолея В.И. Ленина, являющейся аллюзией смены эпох.
Формами реагирования советской технократической интеллигенции на правительственный курс 1953–1964 гг. стали письма, в том числе анонимные в партийные и советские органы и в прессу. В них представители советской интеллигенции шли в развенчании культа личности И.В. Сталина намного дальше очерченных на XX-м съезде партии рамок. Например, в Саратовском госуниверситете заведующий кафедрой философии С.В. Николаев, оценивая личность Сталина, поставил его, по существу, «на одну доску с Гитлером и Керенским». А доцент того же вуза А.Ш. Рорер высказал мысль о необходимости окончательного развенчания Сталина, теоретические работы которого, по его мнению, являются «грубой вульгаризацией марксизма». В Сталинградском пединституте преподаватель Авдеев озвучил мнение о необходимости наличия в стране двух партий. Преподаватель Шильников заявил о том, что в ненормальном положении партии повинен не один Сталин, а преподаватель Филатов задался вопросом: «Где гарантия, что через 20 лет не появится новый Сталин?» (Батурина, 2010: 176–177). Научный сотрудник Института стран Азии АН СССР М.А. Чешков в 1957 г. опубликовал в стенгазете своего института статью о партийно-государственной номенклатуре как социальной базе нравственной деградации советского общества. Старший научный сотрудник Ленинградского института геологической разведки, лауреат Сталинской премии Н.Н. Самсонов в ноябре 1955 г. на полях партийной брошюры оставил ремарку, что история КПСС после 1932 г. есть история превращения партии в замкнутую паразитическую касту. Доцент Ленинградского технологического института П.И. Голованов в 1956 г. отправил Н.С. Хрущеву, а также секретарям Ленинградского областного и районного комитетов партии анонимные письма, в которых писал о «перерождении» КПСС и называл руководство страны «горе-вождями» (Лушин, 2022: 105–107).
Весьма специфической, закрытой частью советской технократической интеллигенции СССР был офицерский корпус Вооруженных Сил СССР (далее – ВС СССР) и органов госбезопасности, на социальном положении и карьерных перспективах которого серьезно отражались реформы Н.С. Хрущева.
Арест и расстрел Л.П. Берии в 1953 г. и начавшаяся чистка советских органов госбезопасности от «людей Берии» привела к увеличению числа перехода на сторону противника сотрудников советских разведывательных органов. В 1954 г. во Франкфурте-на-Майне сдался властям ФРГ капитан МГБ, боевик-ликвидатор Н.Е. Хохлов. В Японии на сторону американцев перешел оперработник токийской резидентуры МГБ подполковник Ю.А. Растворов, а в Австралии попросил политического убежища советский резидент В.М. Петров вместе со своей супругой-шифровальщицей. В 1957 г. перешел на сторону американцев сотрудник нелегальной резидентуры в США, подполковник Р. Хейханен. В 1961 г. уехал в ФРГ агент-ликвидатор КГБ Б.Н. Сташинский, а из Финляндии через Швецию перебежал к американцам майор КГБ А.М. Голицын. В феврале 1964 г. в Женеве перешел на сторону американцев подполковник КГБ Ю.И. Носенко – сын бывшего сталинского министра судостроительной промышленности И.И. Носенко.
В 1956 г. в высшие управленческие инстанции 13 анонимных писем направил полковник КГБ, Герой Советского Союза, начальник военно-строительного отдела КГБ в городе Сочи И.Ф. Титков. Он упрекал руководство страны в сокрытии истинного положения дел в СССР, в крайне низком материальном уровне жизни людей, и требовал прекращения социальных экспериментов над обществом (Лушин, 2022: 107). В 1961 г. в Москве на партконференции начальник кафедры Военной академии имени М.В. Фрунзе, кандидат военных наук, генерал-майор П.Г. Григоренко потребовал в качестве гарантий создания в СССР нового культа личности демократизации выборов, сменяемости партийно-советских руководителей и усиления их ответственности перед избирателями. В 1962 г. отказался выполнить приказ о подавлении танками выступления новочеркасских рабочих и попытался придать гласности информацию о новочеркасском расстреле заместитель командующего Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенант М.К. Шапошников1.
Непродуманные сокращения Н.С. Хрущевым численности ВС СССР привели к поступлению в различные инстанции тысяч жалоб от офицеров и членов их семей, возмущенных своим положением. Социализация демобилизованных офицеров, причислявших себя к «городской интеллигенции», осложнялась тем, что их трудоустройство в сельское хозяйство и на рабочие специальности воспринималось ими как оскорбление1.
Победа Н.С. Хрущева в борьбе за единоличную власть в партии и государстве к июню 1957 г. совпала с укреплением позиций партийно-советской номенклатуры – секретарей крупных региональных партийных организаций КПСС. Именно на них Н.С. Хрущев опирался и из этой среды черпал кадры для новых назначений. После разгрома «антипартийной группы» центр власти переместился в Секретариат ЦК КПСС, который начал курировать, помимо организационнопартийной и идеологической работы, также экономику, внутреннюю и внешнюю политику2, к чему партийная номенклатура оказалась профессионально не готова.
Прокатившиеся в 1959–1962 гг. по территории СССР (Темиртау, Краснодар, Бийск, Муром, Александров, Новочеркасск и др.) массовые беспорядки продемонстрировали уязвимое положение советских технократов, оказавшихся между недовольным населением и партийным руководством. Возмущенные жители громили здания отделений милиции и партийных комитетов КПСС, избивали милиционеров, представителей местной и заводской администрации, пытающихся успокоить людей, забрасывали камнями и освистывали партийно-советских руководителей.
Массовым беспорядкам предшествовал провал работы со стороны партийно-советских и хозяйственных органов. Например, на строительстве Карагандинского металлургического завода в Темиртау в палатках строителей отсутствовала питьевая вода, а столовые были в антисанитарном состоянии. Местное начальство не только не могло улучшить положение дел на производстве и в быту, но даже отказывалось выслушивать претензии. Жалобщиков выгоняли из кабинетов, а у некоторых руководителей в приемных рядом с секретаршей сидели дружинники, которые просто не пускали рабочих на прием (Козлов, 2006: 138). В Новочеркасске представители заводской и партийно-советской администрации также продемонстрировали неумение общаться с людьми. Ответ директора Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного Б.Н. Курочкина на вопрос рабочих о том, как справиться с уменьшением зарплаты и повышением «по их просьбам» цен на продовольствие, стал катализатором возмущения среди бастующих. А монотонное зачитывание первым секретарем Ростовского обкома А.В. Басова обращения ЦК КПСС о необходимости увеличения цен на мясомолочную продукцию только усилило их недовольство (Козлов, 2006: 417, 429–430).
По итогам «разбора полетов» с поста первого секретаря ЦК компартии Казахстана был снят и исключен из состава Президиума ЦК КПСС Н.И. Беляев. Лишились своих постов и получили партийные взыскания первые секретари Карагандинского, Владимирского и Ростовского обкомов КПСС; первый и второй секретари Муромского и Новочеркасского горкомов; председатель Карагандинского совнархоза; директора Новочеркасского электровозостроительного и Муромского машиностроительного заводов, а также руководители территориальных подразделений МВД, КГБ и др. Ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в стране (в том числе за скандальное «рязанское дело») Н.С. Хрущев возложил на заместителя председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР, члена Президиума ЦК А.Б. Аристова.
В ноябре 1962 г. по инициативе Н.С. Хрущева была проведена реорганизация системы партийно-советского управления. В границах существовавших регионов были созданы две партийные организации вместо одной (промышленного и сельского обкомов КПСС), что еще больше усилило ответственность партийных работников за результаты хозяйствования. При волюнтаристской политике Н.С. Хрущева партийно-советская номенклатура не ощущала стабильности положения, и в ее среде к концу 1964 г. назрело решение о необходимости отстранить его от власти. В ходе заседания Президиума ЦК КПСС, прошедшего 13 октября 1964 г., члены высшего партийного руководства предъявили обвинения Н.С. Хрущеву в совершении ошибок в работе, создании культа своей личности и др. Убедившись в отсутствии поддержки среди партийного аппарата, Н.С. Хрущев подписал заявление о своей отставке и новыми руководителями партии и правительства были утверждены Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин.
Заключение. Проведенное исследование показало, что реформаторская политика Н.С. Хрущева носила в значительной мере антиинтеллигентский характер, который к середине 1960-х гг. ощущался практически всеми слоями советской интеллигенции. Творческая интеллигенция в это время еще в значительной мере сохраняла веру в коммунистические идеалы и все больше фиксировала расхождение конкретных мероприятий курса Н.С. Хрущева с идеями «истинного ленинизма». У технократической интеллигенции необходимость выполнения идеологически нагруженных, но материально не обеспеченных народнохозяйственных задач политики Н.С. Хрущева, порождала сомнения в профессиональной компетентности высшей власти. Партийно-советская номенклатура, добившаяся в результате частичной десталинизации гарантий собственной безопасности от повторения партийных чисток, стремилась остановить дальнейшее размывание моральных основ своей власти результатами провальных реформ своего лидера.
Список литературы Отношение советской интеллигенции к реформам Н.С. Хрущева
- Авторханов А.Г. Технология власти. М., 1991. 638 с.
- Батурина Ю.Ю. Общественно-политические настроения научно-педагогической интеллигенции Саратова и Сталинграда после XX съезда КПСС // Вестник Волгоградского госуниверситета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2010. № 2 (18). С. 175-179. EDN: NDQVLF
- Бернхэм Дж. Революция директоров / пер. с англ. Е. Шуваева. Франкфурт-на-Майне, 1954. 160 с.
- Восленский М.С. Номенклатура. М., 2005. 640 с. EDN: QVLTPR
- Козлов В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953-1985 гг. М., 2006. 448 с. EDN: QPBRPP
- Лушин А.И. К вопросу об оценке советской интеллигенцией методов государственного управления в период "великого десятилетия" Н.С. Хрущева // Научные труды Северо-западного института управления РАНХиГС. 2022. Т. 13, № 1 (53). С. 104-109. EDN: RWJJNS
- Парето В. Трансформация демократии. М., 2011. 208 с.
- Тендряков В.Ф. На блаженном острове коммунизма // Свет и тени "великого десятилетия". Л., 1989. С. 284-309.
- Ходанович В.Н. Учение Алвина Гоулднера о "новом классе" и его месте в социальной структуре общества // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2022. Т. 11, № 5-1. С. 204-213. DOI: 10.34670/AR.2022.76.15.026 EDN: IABORV