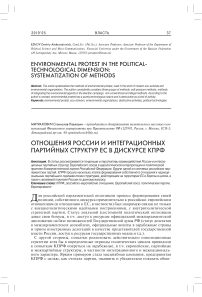Отношения России и интеграционных партийных структур ЕС в дискурсе КПРФ
Автор: Митрахович Станислав Павлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются тенденции и перспективы взаимодействия России и интеграционных партийных структур Европейского союза в идеологической интерпретации и политической практике Коммунистической партии Российской Федерации. Будучи одной из ключевых российских парламентских партий, КПРФ прошла несколько этапов формирования собственного отношения к наднациональным партийным и парламентским структурам, действующим на территории ЕС и Европы в целом, а также к желаемой политике России по данному вопросу.
Кпрф, российско-европейские отношения, европейский союз, политические партии, европарламент
Короткий адрес: https://sciup.org/170171028
IDR: 170171028 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6716
Текст научной статьи Отношения России и интеграционных партийных структур ЕС в дискурсе КПРФ
Д ля российской парламентской оппозиции процесс формирования своей позиции, собственного дискурса применительно к российско-европейским отношениям (и отношению к ЕС, в частности) был напрямую связан не только с внешнеполитическими идейными построениями, с внутриполитической стратегией партии. Статус лояльной (системной) политической оппозиции давал свои бонусы, в т.ч. доступ к ресурсам официальной межпарламентской дипломатии на базе возможностей Государственной думы РФ (статус делегатов в межпарламентских ассамблеях, официальные визиты в зарубежные страны и прием иностранных делегаций в качестве представителей государственной власти России, доступ к ресурсам государственных медиа и т.д.).
С другой стороны, попытки реализовать действительно оппозиционные стратегии хотя бы в определенные периоды политических циклов приводили к попыткам КПРФ опереться на зарубежные, в т.ч. европейские, партийные и межпартийные структуры, в частности интеграционного и межнационального характера. Ярким примером стала масштабная кампания, предпринятая КПРФ с целью, как считала партия, «выявить и убедительно показать обще- ству механизм махинаций» [Суслов 2009: 87]. Для этой цели была не только создана развернутая система контроля за выборами через своих сторонников, но и совместно с оппозиционными либеральными партиями был подан иск в ЕСПЧ, содержание которого активно продвигалось коммунистами и через иные структуры Совета Европы, прежде всего через ПАСЕ. Критика в адрес ПАСЕ по различным идеологическим вопросам сочеталась, таким образом, с использованием этой же площадки для критики уже российских властей. В значительной степени КПРФ реализовывала данную стратегию и коммуникации с иными интеграционными партийными структурами на пространстве ЕС (впрочем, с периода украинского кризиса 2013 г. чаще солидаризируясь с российской исполнительной властью и президентом).
В целом в путинский период отношение КПРФ к возможному партнерству с общеевропейскими партиями и с Европарламентом как важнейшей партийной интеграционной структурой ЕС было весьма сдержанным, что объяснялось двумя основными факторами. Во-первых, Европарламент воспринимался коммунистами как зримое воплощение тенденции передачи странами Европы части своих суверенных прав на наднациональный уровень, что для ориентированной на идею незыблемости суверенитета России КПРФ делало его не слишком привлекательным образованием.
Во-вторых, даже установление юридически ни к чему не обязывающего формата консультаций КПРФ с европейскими левыми партиями или фракцией «Европейские объединенные левые» в Европарламенте оказалось затруднено из-за недостаточной идеологической совместимости российских коммунистов с их европейскими коллегами. За исключением отдельных компартий отдельных стран (например, Греции) КПРФ было сложно договариваться о сотрудничестве, поскольку для значительной части европейских социалистов и социал-демократов неприемлема идеализация российскими коммунистами СССР, и особенно политики И. Сталина. Для КПРФ же неприемлемыми оказывались многие тезисы современных западных левых, особенно связанные с тематикой приоритетной защиты определенных типов меньшинств, политкорректности, уменьшения расходов на армию и т.п.
В результате прозвучавшие в середине нулевых годов призыв Зюганова «обратить внимание на усилия коммунистических и левых партий по созданию Европейской левой партии [ The Party of the European Left ], призванной объединить партии стран, входящих в Евросоюз, для выработки общей платформы на выборах в Европарламент, формирования в нем единой фракции», и тезис лидера партии о том, что «нам [КПРФ] следует создать механизм сотрудничества с ней» [Зюганов 2006: 56], фактически остались без развития.
Двойственным было и отношение КПРФ к еще одному значимому объединению европейских партий – Социнтерну. В некоторых выступлениях Зюганов давал понять, что с уважением относится к данной структуре. Так, например, в диалоге с итальянскими политиками в 2003 г. он предлагал рассматривать московский конгресс Социнтерна «как одно из юбилейных мероприятий в честь наших предшественников и основателей из Российской социал-демократической рабочей партии»1.
В партии просматривалось «державное крыло», высказывавшееся в совсем ином тоне. Пользуясь терминологией известного академического исследователя деятельности КПРФ С. Черняховского, по итогам «антитроцкистских» и «антиоранжистских» чисток нулевых годов в КПРФ можно выделить две основ- ные группы: «коммунистов»/интернационалистов (И. Мельников, Е. Лигачев) и «националистов-русофилов»1 (В. Никитин, В. Рашкин, С. Решульский, к ним же по большинству вопросу примыкает и сам Г. Зюганов). Отметим, что В. Никитин как председатель ЦКРК КПРФ трактовал неформальную фракционность в КПРФ как борьбу двух крыльев – «марксистского» и «марксистско-ленинского». Первое – западническое (интернационалистическое, собственно левое), второе – сугубо русское («державное»).
«Державное» крыло партии расценивало Социнтерн как проводника «западной идеи» и как организацию, которая контролирует «правильность» социал-демократии: «Социнтерн – организация, предельно дисциплинированная и жесткая. Она умеет заставить подчиниться. Членство в ней во многом означает отказ от национальных интересов в пользу задач наднациональных, глобалистских»2. Отношение лично Г. Зюганова к Социнтерну во многих публичных высказываниях было близко к мнению «никитинцев». Так, относительно «арабских революций» начала 2011 г. лидер КПРФ отмечал: «…при-мечательно, что обанкротившиеся правящие партии Туниса и Египта являются активными членами Социнтерна, громче всех проповедующего приверженность демократии и правам человека»3.
Зато де-факто в пользу Социнтерна выступала «группа Мельникова», имевшая возможность проводить свою «минималистски европейскую» линию, хотя практически не афишируя ее в публичном пространстве. Мельникова Социнтерн несколько раз приглашал на свои заседания, но исключительно в персональном качестве. А в 2007 г. заведующий международным отделом ЦК КПРФ Андрей Филиппов опубликовал на партийном сайте статью с критикой «Справедливой России», причем публикация сопровождалась едкой карикатурой, высмеивающей попытки «недостойных» попасть в Социнтерн, выведенный как клуб солидных и серьезных политических сил4. Очевидно, что за пределами подобной «конъюнктуры момента» симпатии коммунистов к Социнтерну сводились к минимуму, причиной чего опять же была недостаточная идеологическая совместимость КПРФ с доминировавшей в Интернационале формой социализма (по крайней мере, европейского). Для «Справедливой России», для сравнения, работа с Социнтерном, куда партия все же сумела вступить в 2012 г., членство в нем было важным элементом идеологического позиционирования себя как участника солидного межпартийного сообщества [Митрахович 2019: 85], дифференцирующего «эсеров» как от российской партии власти, так и от конкурентов на оппозиционном пространстве российской политики.
Не сближаясь на деле с Европейской левой партией и Социнтерном, коммунисты продолжали делать вид, что договоренности еще возможны, особенно по вопросу совместного с европейскими левыми силами оппонирования планам внесения в Европарламент очередных «антисоветских» «исторических» резолюций. Однако ситуация осложнилась, когда в 2008 г. социалисты в Европарламенте, по мнению КПРФ, слишком лояльно отнеслись к планам принятия одной из подобных резолюций, осуждающих преступления коммунистических режимов. На консультациях с лидерами кипрских социалистов
Зюганов был вынужден констатировать, что вслед за «антикоммунистической» активностью правых групп в ПАСЕ «теперь уже социалисты вновь инициируют этот вопрос». Лидер КПРФ придал своей позиции особый трагизм, сравнив сложившуюся ситуацию с опытом 1930-х гг.: «Хочу напомнить, что во многом из-за раскола левых сил – коммунистов и социалистов – в Германии к власти пришли фашисты… Я просто не понимаю, почему европейские социалисты реанимируют эти недостойные попытки унизить нашу страну, проталкивая антикоммунистические решения»1.
Подобные затруднения дополнительно вынуждали КПРФ не афишировать подробно свое отношение к левым силам в Европарламенте и не заострять внимание своего электората, и даже партактива, на данной проблематике. Впрочем, периодически стремление коммунистов найти дополнительные ресурсы для оппонирования российским властям все же возвращало их внимание к Европарламенту. Например, коммунисты высказывали свою поддержку известному евродепутату (в прошлом – одному из лидеров «Красного мая» 1968 г.) Даниэлю Кон-Бендиту, когда последний ставил в Европарламенте вопрос о нарушениях руководством Грузии договоренностей с Брюсселем об использовании финансовых средств, полученных кавказской республикой от ЕС. А секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной думы С.П. Обухов даже заявил, что КПРФ ведет с коммунистами из Европарламента переговоры о том, чтобы составить свой аналог «списка Магнитского» из числа «российских судей и работников правоохранительных органов, запятнавших себя неправосудными решениями». По мнению коммуниста, «мы с полным основанием можем попросить наших коллег, чтобы этим гражданам запретили въезд в Европу и арестовали их счета… считаю, что необходимо использовать данную технологию для восстановления и торжества правосудия в Российской Федерации»2.
Украинский кризис 2014 г. и последовавшее резкое осложнение отношений России и Европейского союза привело к дополнительной солидаризации КПРФ с большинством внешнеполитических оценок российских властей на уровне президента, федерального правительства и «Единой России». В том числе это касается оценок Европарламента и его многочисленных резолюций с осуждением действий Москвы во внешней политике. Часть коммунистов попали в санкционный список ЕС «за голосование по присоединению Крыма» (в т.ч. вице-спикер от КПРФ И. Мельников и зампредседателя думского комитета по международным делам Л. Калашников).
Однако стремление использовать контакты с европейскими партийными структурами у КПРФ осталось, пусть и в меньшей степени, чем у «Справедливой России». Все же коммунисты предпринимали усилия презентировать себя как дополнительный канал связи для России в поиске понимания в Европе, и Европарламенте в частности. Тем более что левые силы в нем, несмотря на идеологические нюансы, нередко выступали за сдерживание санкционной политики ЕС в отношении Москвы [Басов 2016: 66].
В качестве примеров попыток использования связей с левыми силами Европарламента на новом этапе можно привести призывы того же Калашникова не вводить автоматически ответные ограничительные меры для депутатов Европарламента из-за соответствующих ограничений на доступ в Европарламент для российских дипломатов и депутатов. Все тот же Филиппов описывал Европарламент как структуру с «полярными позициями», призывал не мазать всех одной краской и подчеркивал, что депутаты Европарламента «все европейцы, но не все они одинаковые». Филиппов отдельно отмечал, например, что «Объединенные левые» в Европарламенте критиковали высказывания Г. Каспарова относительно виновности российских властей в смерти Б. Немцова и «выступают категорически против использования определенными силами в России и в Европе этой трагедии в политических целях»1. Сам Зюганов выступал с призывами к Европарламенту и Совету Европы осудить запрет Коммунистической партии Украины, сам неоднократно обещал выступить перед фракций (группой) левых в Европарламенте и т.п.
Отметим в качестве вывода, что в целом Европарламенту КПРФ уделяла значительно меньшее внимание, чем Совету Европы, что объяснялось не только базовыми институциональными причинами (членство РФ в СЕ и отсутствие внешнеполитического курса на вступление в ЕС), но и опасением оказаться на откровенной идеологической периферии в случае присоединения КПРФ хотя бы к неким неформальным консультациям о будущем Европейской левой партии (Партия европейских левых) или о реформе Социнтерна. С вопросом же о возможности или невозможности использования Европарламента как внешнего ресурса в процессе оппонирования российским властям (как своего рода авторитетного арбитра по судебным, выборным и тому подобным темам) КПРФ окончательно так и не определилась. В итоге партия частично пошла по пути «Справедливой России», т.е. активизировала позиционирование себя как канала политической коммуникации в рамках парламентской дипломатии для усиления позиций России, в первую очередь через контакты с Европейской левой партией, сохраняя, впрочем, более «державническую» линию в сравнении с «эсерами».
Список литературы Отношения России и интеграционных партийных структур ЕС в дискурсе КПРФ
- Басов Ф. 2016. Германия, Европарламент и политика санкций в отношении России. - Мировая экономика и международные отношения. № 12. С. 62-68
- Зюганов Г.А. 2006. Защищая наш мир. О внешнеполитической деятельности КПРФ. М.: Изд-во ИТРК. 256 с
- Митрахович С.П. 2019. Взаимодействие партийных структур Европейского союза и Российской Федерации в дискурсе российских левых сил на примере "Справедливой России". - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 4. С. 83-87
- Суслов Ю.П. 2009. Стратегия и тактика КПРФвизбирательных циклах современной России. - Известия Саратовского университета. Т. 9. Сер. Социология. Политология. Вып. 2. С. 86-89