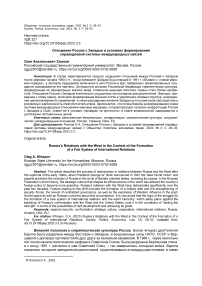Отношения России с Западом в условиях формирования справедливой системы международных связей
Автор: Хлопов Олег Анатольевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье характеризуется процесс ухудшения отношений между Россией и Западом после эйфории начала 1990-х гг., когда президент Джордж Буш-старший в 1991 г. объявил о «новом мировом порядке», а эксперты предрекали включение в него России в круг либерально ориентированных государств, раскрываются его причины. За недолгую историю Российской Федерации стратегическая культура, формирующая ее официальную картину мира, позволила внешней политике страны стать более напористой. Отношения России с Западом значительно ухудшились за последние два десятилетия. Факторы, приведшие к этому сдвигу, включали формирование военной элиты и укрепления силовых структур, возрождение централизованного управления, а также расширение влияния Запада на постсоветском пространстве и российскую озабоченность этим обстоятельством. Заключается, что логика борьбы за формирование новой системы международных отношений и мировую иерархию, которая проходит на фоне конфронтации России с Западом и США, ставит ее в условия «проверки на прочность» в плане возможностей саморазвития и достижения поставленных целей.
Региональная безопасность, конфронтация, стратегическая культура, сотрудничество, международные отношения, Россия, украина, сша, ес
Короткий адрес: https://sciup.org/149142188
IDR: 149142188 | УДК: 327 | DOI: 10.24158/pep.2023.3.3
Текст научной статьи Отношения России с Западом в условиях формирования справедливой системы международных связей
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, ,
Россия, казалось, была готова присоединиться к западному сообществу государств. Однако этого не произошло, и по состоянию на 2023 г. отношения между РФ и Западом в целом остаются наихудшими с момента окончания холодного противостояния и, очевидно, имеют мало шансов на улучшение в ближайшем будущем.
Выступая на III Московской конференции по международной безопасности в мае 2014 г., министр обороны России Сергей Шойгу назвал «цветные революции» новой формой ведения войны, разработанной Западом для подрыва обороноспособности России и ее союзников1.
После того как США и Европейский союз ввели экономические санкции против России в ответ воссоединение Крыма с Россией в 2014 г, последовали обвинения США России о вмешательстве в выборы в демократических западных государствах, что в значительной степени способствовало росту враждебности, несмотря на отказ президента Д. Трампа признать невмешательство России в выборы в США в 2016 г. (Maddow, 2019). Вскоре после этого Белый дом обвинил Россию в «инженерии серии кибератак, нацеленных на американские и европейские атомные электростанции, системы водоснабжения и электроснабжения, которые могли привести к саботажу или отключению электростанций по желанию»2.
Взаимные политические нападки между Россией и Западом, увеличение военных бюджетов и учений, обвинения США России в нарушении соглашений по ядерным вооружениям, проведение специальной военной операции (СВО) с 2022 г. на Украине позволяют говорить о новой холодной войне между Россией и коллективным Западом.
Сдвиг в отношениях между странами в значительной степени стал результатом консолидации президентом В. Путиным политической власти внутри страны и назначения должностных лиц, выражающие интересы государства, которые тяготеют к централизованному политическому контролю и относятся к Западу, как к сопернику.
В начале холодной войны с США возникла школа политических аналитиков, которые подчеркивали важность «операционного кодекса» поведения, или, как выразился Джек Снайдер, «стратегической культуры», определяемой как совокупность идей, обусловленных эмоциональной реакцией и моделями привычного поведения, которые члены национального стратегического сообщества выработали путем обучения или подражания и которыми делятся друг с другом в отношении ядерной стратегии и внешней политики в целом (Snyder, 1977).
Совсем недавно теоретики-конструктивисты возродили эту концепцию, сосредоточив внимание на «согласованной реальности» между политическими элитами страны. Стратегическая культура – это совокупность широко разделяемых, влиятельных и особенно устойчивых отношений, а также восприятие, рефлексия о национальной безопасности в ее самом широком смысле, которые формируют поведение и политику государства (Lantis, Howlett, 2018).
Другими словами, стратегическая культура возникает на пересечении внутренней и внешней политики, военной и экономической систем. Политическая культура включает приверженность таким ценностям, как принципы и институты, составляющие основу государственного строительства, идеи о морали и применении силы, правах отдельных лиц или коллективов и предрасположенности к определению роли страны в глобальной политике.
Стефан Бланк, американский эксперт, научный сотрудник евразийской программы Института исследования внешней политики (США), отметил несколько важных аспектов в понимании российской стратегической культуры. Он указал на непрекращающуюся политическую и военную борьбу, которую он назвал «классовой», как основу для этой новой стратегической культуры, которая предполагает необходимость противостоять постоянным конфликтам и угрозам из внешнего мира (Blank, 1993). Хотя в последние десятилетия советской власти произошли изменения, Бланк поставил под сомнение непреходящую силу этих тенденций во внутренней политике России и поднял важный вопрос о возвращении к историческим признакам (атавизмам) в российской стратегической культуре, при этом российская элита, по его мнению, сохраняет приверженность более ранним ее формам (Blank, 1993).
От возможного сотрудничества России с Западом до смены внешнеполитического курса . Обеспокоенность нашей страны в области безопасности в начале 1990-х гг. вызывали внутренние угрозы, возникающие в результате экономического спада, нестабильности и социальных проблем3. Внешние вызовы преодолевались в сотрудничестве с Западом. Как утверждал Стивен Коэн два десятилетия назад, когда Россия только приспосабливалась к своему новому и уменьшенному постсоветскому статусу, и казалось, что она была готова сотрудничать с
Европой и США, российская политическая элита преуменьшала и даже игнорировала интересы России на мировой арене (Cohen, 2001).
Однако Запад расширял свое участие в бывшей советской сфере и попытался ограничить способность Москвы восстановить контроль в регионе, но столкнулся с упорным противодействием со стороны части российских политиков. Критика политических событий в самой России усилилась как в Брюсселе, так и в Вашингтоне, что привело США к участию в обеспечении переизбрания президента Бориса Ельцина в 1996 г.
Политика России в отношении Запада начала меняться уже в середине 1990-х гг. при Б. Ельцине. Например, депутаты Госдумы не ратифицировали договор СНВ, подписанный между США и РФ в январе 1993 г.1 Фракция КПРФ заявила, что он не отвечает интересам России и может быть одобрен только при условии соблюдения США Договора по ПРО2 и подтверждения бессрочности его действия, а операции НАТО с нанесением по Югославии бомбовых ударов «отодвинули на неопределенный срок, если не дезавуировали окончательно и навсегда Договор СНВ-2»3.
С избранием В. Путина президентом РФ противоречия между Россией и Западом стали постепенно нарастать. Распространение получило восприятие проводимой последним политики в отношении России как направленной на ущемление ее интересов и представляющей угрозу ее национальной безопасности, что способствовало росту настроений враждебности в социуме по отношению к Европе и США.
Западные инициативы, на которые реагировала Россия, включали расширение НАТО и ЕС на Восток; решение США разместить противоракетную систему в Польше и Чехии; приверженность Евросоюза новой политике соседства; поддержка Западом «цветных революций», которые бросили вызов союзникам Москвы в Киеве, Тбилиси и Бишкеке и привели к власти группы, приверженные более тесным связям с Западом.
Официальной российской реакцией на то, что было истолковано как растущие вызовы основным интересам государственной безопасности, стало обострение чувства национальной идентичности, которое поставило под сомнение европейский характер России. Это изменение в самосознании было дополнено вызовом доминирующему положению Запада как в Центральной и Восточной Европе, так и во всем мире, поскольку Россия начала восстанавливать свое положение в качестве региональной державы в Евразии и позиционировать себя как ключевого глобального игрока. Другими словами, причины ухудшения ее отношений с Западом происходили из устойчивых советских взглядов на капиталистическую Европу, а результаты односторонних западных интервенций в бывшей Югославии и «цветных революций» еще более осложнили взаимодействие между странами.
Россия решительно выступала против расширения НАТО на Восток еще в 1990-х гг. Однако к началу 2000-х гг. экономико-политический подход к интеграции постсоветских государств в либеральный западный порядок подрывал уже долгосрочные интересы России, что стало важным фактором для нарастания напряженности в отношениях России и ЕС. По мнению Москвы, это были попытки проамериканских властных структур и неправительственных организаций (НПО) изменить политическую ориентацию ряда стран в сторону более тесных связей с Западом. Как отметил В. Путин, «мы видим, к каким трагическим последствиям привела волна так называемых “цветных революций”. Для нас это урок и предупреждение. Мы должны сделать все необходимое, чтобы в России ничего подобного никогда не произошло»4.
Примерно к 2005 г. политическое руководство в Москве стало рассматривать вхождение посткоммунистических государств в западные политические, экономические институты и институты безопасности как долгосрочную угрозу попыткам России восстановить лидирующее положение в Евразии и вернуть себе роль крупной мировой державы. Примерно в это же время В. Путин публично заявил, что распад СССР стал геополитической катастрофой ХХ века5, и начал более настойчиво утверждать, что действия НАТО и США представляют серьезную угрозу для российской и международной безопасности.
Выступление Президента РФ В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 г.1 стало водоразделом в российской внешней политике и политике безопасности. Он открыто заявил, что Россия снова стала независимым международным игроком и больше не будет следовать примеру Запада, а будет руководствоваться интересами своей безопасности и внешней политики2. Некоторые западные эксперты оценили это выступление как свидетельство того, что Россия считает себя одним из полюсов в международной системе, отделенным от Запада и находящимся с ним в конфликте, что стало серьезным отходом от представления о России как о государстве, ориентированном на западное сообщество, которое многие годы доминировало в российской культуре безопасности (Glasser, 2019).
Угрозы безопасности России стали определяться в первую очередь как внешние, а не внутренние. В ответ на критику со стороны ЕС и США о качестве российской демократии руководство страны в Москве ответило, что в России существует собственная форма «суверенной демократии», в которой особое внимание уделяется аспекту независимости3.
Первая крупная конфронтация с Европейским Союзом была связана с «газовыми войнами» 2006 и 2009 гг. между Россией и Украиной, которые привели к прекращению поставок природного газа в страны – члены ЕС в середине зимы. Проблемы возникли в результате ценового и платежного конфликта между Россией и Украиной, в основе которого лежал давний спор о стоимости российских энергоресурсов, поставляемых на Украину, а также о плате за транзит российского газа в Европу. До «оранжевой революции» и государственного переворота в Киеве этот вопрос решался путем переговоров. Но когда на Украине появилось дружественное ЕС правительство, найти компромисс стало труднее, последовала политическая конфронтация. Тупик привел к противостоянию, в котором Москва приняла на себя политические издержки своих долгосрочных отношений с ЕС.
Ранее «революция роз» привела к власти в Тбилиси правительство, приверженное более тесным связям с Западом и НАТО. Российская «пятидневная война» 2008 г. послала миру четкий сигнал о том, что после десятилетия словесного противодействия расширению НАТО Россия теперь способна предотвратить дальнейшее расширение на Восток западных политических институтов и институтов безопасности, даже если это означает ухудшение отношений как с США, так и с Европой.
Готовность Москвы отстаивать свои интересы возродила серьезные опасения среди новых членов ЕС по поводу перспектив их долгосрочной безопасности перед лицом все более напористой России. В разногласиях с ней Польша и Литва использовали свое право вето в ЕС, чтобы помешать переговорам, касающимся заключения нового соглашения о партнерстве между Брюсселем и Москвой. На совместной встрече между ЕС и Россией в мае 2007 г. эти и другие вопросы разделили обе стороны и помешали достижению ими соглашения по вопросам, которые представлялись важными для них (Kanet, 2018).
Таким образом, во время второго срока В. Путина на посту президента России и в период лидерства Д. Медведева отношения России с Европейским Союзом и с отдельными его членами значительно ухудшились. Отчасти это можно обнаружить в возражениях России против притязаний ЕС на моральный авторитет и в обвинении объединения в применении двойных стандартов.
Как мы уже отмечали, политическая культура элиты современной России включает в себя представление о том, что природа международной системы основана на силовой политике, что российская экономика ориентирована на присутствие на глобальном рынке, а политическая легитимность связана с усилением роли государства. Поэтому Россия стала больше акцентировать внимание на предполагаемых угрозах безопасности со стороны Запада, на том, как она смогла бы сдерживать эти угрозы. Четыре года президентства Д. Медведева мало что изменили в общем характере отношений России и ЕС, хотя обеим сторонам удалось достичь договоренностей по ряду вопросов (Тренин, 2015).
Несостоявшаяся «перезагрузка» и украинский кризис. Обеспечение стабильности как в самой России, так и на всем постсоветском пространстве стало центральным элементом национальной политики. Помимо оспаривания западных политических норм, к концу 2000-х гг. Россия начала настаивать на структурных изменениях в международной системе, что привело к раскручиванию конкуренции между Востоком и Западом. Например, вскоре после российско-грузинской войны в августе 2008 г. президент Д. Медведев предложил новый Договор о европейской безопасности, основанный на предположениях, совершенно отличных от допущений существующей архитектуры безопасности1. Россия предлагала создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана, добивалась заключения соглашения с ЕС об отмене виз при краткосрочных взаимных поездках граждан, стремилась развивать взаимовыгодное партнерство в целях создания единого энергетического комплекса Европы.
После начала кризиса на Украине почти ничего не изменилось в отношениях между Россией и странами Запада. Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидали многие в Европе, несмотря на обвал мировых цен на энергоносители и расходы, связанные с санкциями, введенными Европейским союзом и США. Что еще более важно, экономические ограничения и вызванные ими внутренние проблемы в России не повлияли на политическое руководство настолько, чтобы инициировать существенный сдвиг в российской внутренней и внешней политике.
Правительство страны по-прежнему привержено идее восстановления ключевой роли России в региональных делах. Активная дипломатия стала важным инструментом в достижении целей по утверждению России в качестве мировой державы, а также в обеспечении собственного контроля над внутриполитической системой страны.
Очевидно, что конфронтация между Россией и США, Европейским союзом будет продолжаться до тех пор, пока та или иная сторона не откажется от своих целей или пока руководство США не поставит под вопрос практически все аспекты своей внешней политики, включая отношения как с давними союзниками по НАТО, так и с Москвой.
Официально российская стратегическая культура четверть века назад сместила акцент с внутренних проблем и потенциального сотрудничества с Западом на внешние угрозы, практически все из которых исходят от Европы и США. Однако более важным представляется изменение парадигмы отношений принципиально более широкого круга – между Востоком и Западом (Zakaria 2019).
Невозможно предсказать характер краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных последствий политики США в отношении с европейскими союзниками и РФ, а также для отношений между Востоком и Западом.
Реакция России на расширение НАТО развилась от попыток ограниченного сотрудничества до пассивной, а затем активной политики сдерживания. Изменившееся восприятие Россией НАТО с потенциального партнера до возможного военного противника основано на историческом опыте рассмотрения альянса и Запада в целом как потенциально угрожающих факторов после окончания холодной войны.
Для России на сегодняшний день НАТО остается главной угрозой национальной безопасности, так как через расширение альянса за счет включения в него новых членов Запад стремится реализовывать свое культурное, экономическое и политическое господство. Исторические цели России в Евразии тесно связаны со стремлением играть ключевую роль в регионе. Решимость оставаться крупной державой, наряду с перераспределением глобальной силы от западноцентричной модели мира к его многополярности, делает возвращение России в Евразию важным фактором построения полицентричности международного сообщества.
К началу 2023 г. администрация Дж. Байдена потратила на Украину около 48 млрд долл., из них 48 %, почти 23 млрд долл., – на военные нужды2. Это самый высокий показатель в мире. К этому времени в США сформировалось два подхода к тому, что делать дальше. Согласно первому, надо продолжать поставки Украине вооружения в объемах, достаточных для поддержания ее боеспособности, предполагая, что затяжной конфликт на истощение надломит Россию. Второй подход призывает избегать продолжения военных действий, т. к. масштабный кризис отвлекает внимание и ресурсы США от главного противника – Китая, что означает лишь заморозку конфликта без решений глубинных проблем, которые привели к началу боевых действий3.
Завершение специальной военной операции на Украине в пользу России с точки зрения ее противников не должно случиться никогда, потому что повлечет за собой лавинообразное обрушение западного доминирования во всех сферах. Но то, что в Европе называют «войной на истощение», позволит России сконцентрировать ресурсы и опереться на традиционное умение выдержать напряжение дольше, чем ее противники.
Содержание послания В. Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023 г.4 указало на необходимость заняться раскрытием собственного потенциала. Но очевидно и то, Россия даже в состоянии гибридной войны с Западом способна играть существенную роль в мире за счет собственного потенциала, географии, дипломатии и политики; ее очень трудно игнорировать и не замечать.
Следовательно, формирование новой системы международных отношений невозможно без участия России и признания за ней ключевого акторства в мировых процессах, однако и ей в условиях конфронтации с коллективным западом предстоит искать возможности для саморазвития и самоизменения.
Список литературы Отношения России с Западом в условиях формирования справедливой системы международных связей
- Тренин Д. Россия и мир в XXI веке. М., 2015. 384 с.
- Blank S.J. Class War on a Global Scale: The Leninist Culture of Political Conflict // Conflict, Culture, and History: Regional Dimensions. Alabama, 1993. Р. 1-55.
- Cohen, S.F. Failed Crusade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia. N. Y., 2001. 366 p.
- Glasser S.B. Putin the Great: Russia's Imperial Impostor // Foreign Affairs. 2019. Vol. 98, iss. 5. P. 7-10.
- Kanet R.E.Russia and Global Governance: The Challenge to the Existing Liberal Order // International Politics. 2018. Vol. 55, iss. 2. Р. 177-188.
- Lantis J.S., Howlett D. Strategic Culture // Strategy in the Contemporary World. N. Y., 2018. Р. 89-107.
- Maddow R. Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia and the Richest, Most Destructive Industry on Earth. N. Y., 2019. 432 p.
- Snyder J.L. The Soviet Strategic Culture. Implications for Limited Nuclear Operations. Santa Monica, 1977. 50 р.
- Zakaria F. The Self-Destruction of American Power: Washington Squandered the Unipolar Moment //Foreign Affairs. 2019. Vol. 98, iss. 5. Р. 10-16.