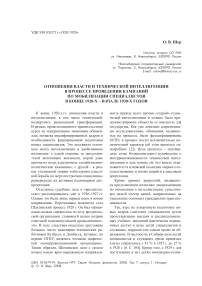Отношения власти и технической интеллигенции в процессе проведения кампаний по мобилизации специалистов в конце 1920-х - начале 1930-х годов
Автор: Шер О.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736922
IDR: 14736922 | УДК: 930.85(571)
Текст краткого сообщения Отношения власти и технической интеллигенции в процессе проведения кампаний по мобилизации специалистов в конце 1920-х - начале 1930-х годов
К концу 1920-х гг. отношения власти и интеллигенции, в том числе технической, подверглись радикальной трансформации. В рамках провозглашенного правительством курса на модернизацию экономики обнажилась нехватка квалифицированных кадров и необходимость форсированной подготовки новых специалистов. Это поставило основную массу интеллигенции в двойственное положение: с одной стороны, ее представителей интенсивно вовлекали, порой даже против их воли, в различные «хозяйственнополитические кампании»; с другой – в рамках сталинской теории «обострения классовой борьбы по мере построения социализма» развернулась их активная планомерная дискредитация.
Отдельные судебные дела о «вредительстве» рассматривались уже в 1926–1927 гг. Однако это были лишь первые шаги в новом направлении. Переломным моментом стал Шахтинский процесс 1928 г. Он был официально назван «процессом по делу вредительской организации, ставившей целью подрыв советской каменноугольной промышленности». В ходе следствия оказалось арестовано большое число инженерно-технических работников Кузбасса и Донбасса, которые, по версии ОГПУ, являлись членами мифической «контрреволюционной организации». Таким образом, Шахтинское дело с самого начала имело ярко выраженную направлен- ность прежде всего против «старой» технической интеллигенции и должно было продемонстрировать обществу ее опасность для государства. Как уже доказано современными исследователями, обвинения, выдвинутые на процессе, были фальсифицированы ОГПУ, и процесс носил исключительно политический характер (об этом процессе см. подробнее: [2]). Цель процесса – подтвердить тезис большевистского руководства о контрреволюционности технической интеллигенции и дать понять ей, что власть отказывается от нэповской политики мирного сосуществование и готово перейти к массовым репрессиям.
Кроме прямых репрессий, являвшихся продолжением политики дискриминации по отношению к интеллигенции, существовал целый спектр акций, направленных на ущемление основных гражданских прав специалистов.
Так, курс на ускоренную подготовку новых кадров советских специалистов путем пролетаризации высших и среднеспециальных учебных заведений фактически ограничивал доступ в вузы детей специалистов и служащих, нарушая тем самым право на образование. В частности, в Сибири доля детей специалистов и служащих среди принятых в вузы сократилась с 41 % в 1927 г. до 27 % в 1928 г. [6. С. 104]. Кроме того, с 1929 г. для поступления в вуз детям инженерно-техни-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © О. В. Шер, 2008
ческих работников (ИТР) обязательно были необходимы отзывы инженерно-технических секций (ИТС) и месткомов (фабзавкомов) предприятий, на которых работал их родитель или же сам поступающий. Отзыв долен был содержать характеристику как с производственной стороны (не менее пяти лет советского стажа по специальности), так и с общественной.
Прямым ограничением права на умственный труд выступали «чистки» соваппарата, проводимые в 1920-е – начале 1930-х гг. Они проводились как по политическому, так и по социальному признаку, что автоматически подводило под «чистку» большинство представителей «старой» интеллигенции [4. С. 180].
В череде дискриминационных мероприятий по отношению к интеллигенции свое важное место занимали кампании по мобилизации специалистов для работы в сфере производства. Основной «функциональной» причиной проведения мобилизаций выступала острая нехватка специалистов на предприятиях, требовавшая немедленного разрешения. Положение становилось тем более критическим, что на повестке дня уже стояла индустриализация с ее «ударными стройками социализма». Так, для Западно-Сибирского региона в связи с климатическими, бытовыми и другими особенностями данной территории кадровая проблема приобрела особое значение.
Мобилизационные кампании только формально относились к сфере организационно-хозяйственных мероприятий. На деле же большевики нашли удачное сочетание того, как дискриминационно-репрессивная по своей сути политика, направленная на подавление некоторой социально-профессиональной самостоятельности интеллигенции, при этом была призвана способствовать и решению сугубо практических задач. Сама же технология, применявшаяся при проведении трудовых мобилизаций, была практически полностью заимствована из арсенала аналогичных кампаний периода «военного коммунизма».
Первые шаги в мобилизационном процессе использования специалистов были сделаны согласно решению пленума ЦК ВКП(б) от 10–17 ноября 1929 г. о кадрах [3. С. 18–28]. В октябре 1930 г. началась первая пробная переброска 50 специалистов из Москвы и
Ленинграда на предприятия Кузбасса 1. Формально она носила добровольный характер, при этом, однако, устанавливалась разверстка (твердое количество человек, подлежащих мобилизации). К ноябрю 1930 г. мобилизационные кампании, как правило, уже проводились по устоявшимся стандартам. Реально сложившаяся методика их осуществления требовала легализации, которая и была осуществлена постановлением СНК РСФСР от 27 ноября 1930 г. о порядке перемещения специалистов 2. Но, несмотря на все старания властей, их хозяйственная эффективность оказалась невелика – потребности в специалистах удовлетворялись меньше чем наполовину, значительно затягивались по времени и редко доходили до полного завершения (подробный анализ эффективности кампаний см.: [7. С. 80–94]). В то же время функциональный характер данных кампаний, как и других видов скрытых репрессий, не был их единственной целью. Благодаря им в среде интеллигенции формировалась атмосфера неуверенности в завтрашнем дне, зависимости от государства, страха; постепенно техническая интеллигенция в массе своей теряет прежний весьма высокий социальный статус, частично превращаясь в одну из маргинальных групп общества.
Отныне техническая инициатива должна была принадлежать только сталинскому руководству, а специалистам предстояло стать безмолвными проводниками всех партийных решений. В январе 1929 г. началась полемика на страницах журнала «Инженерный труд», выразившаяся в массированных нападках на «философию техники» – движение, сформировавшееся в некоторых странах Европы, особенно в Германии, направленное на расширение сферы деятельности инженеров в общественную область, объединения инженеров в общественные организации для борьбы за престиж инженера, на выработку «идеологии инженерства» и осознания инженерами своей общественной миссии. «Философия техники» была заклеймена с точки зрения классовой борьбы и признана узкобуржуазной, техника была признана неотъемлемой от политики, и должна была быть в обязательном порядке основана на марк- систко-ленинской идеологии. Этот теоретический поворот был основан не на анализе технической мысли, а представлял собой ее полное отрицание, направленное на ликвидацию технической мысли, оригинально сформированной самими инженерами [5. С. 303].
Другой реакцией инженерно-технической интеллигенции на ее позиции и статус стало «бегство с производства». Судебные процессы над вредителями, «спецеедчес-кие» настроения привели к тому, что специалисты все меньше проявляли техническую инициативу, чаще стремились снять с себя ответственность, соглашались со всякими требованиями рабочих без критической их оценки [1. С. 102]. ИТР все чаще старались перейти с работы на производстве в управляющий аппарат, на должности с меньшей ответственностью и меньшей опасностью. Это движение было настолько сильным, что текучесть инженерных кадров на производстве сильно усугубила и без того серьезную проблему нехватки квалифицированных работников. Меры по возвращению на производство были приняты в рамках кампаний по мобилизации специалистов 3. Другим, хотя и специфичным каналом перераспределения специалистов отчасти оказалась генеральная «чистка» соваппарата – «вычищенные» из аппарата по 2-й или 3-й категории не могли работать в управленческих структурах и вынуждены были работать на производстве [4. С. 189]. Менее радикальным способом был комплекс мероприятий для устранения тяги инженерно-технических работников с производства в учреждения путем регулирования оплаты труда, рабочего времени, льгот за работу в особых условиях 4. Но эти меры не давали результата, и материальное положение специалистов в годы первой пятилетки оставляло желать лучшего [1. С. 204].
Пассивный протест технической интеллигенции выражался в их сопротивлении кампаниям по мобилизации специалистов, тем более что разлаженность механизма перебросок и позволяла избежать прямого наказания. Так, в октябре 1930 г. постановлением ЦК ВКП(б) была объявлена кампания по переброске 50 специалистов из европейской части страны на предприятия Кузбасса
[3. C. 222–225]. Ее реализация натолкнулась на сильное сопротивление со стороны специалистов – 17 специалистов-угольщиков из Москвы и 16 из Ленинграда не выполнили предписание Наркомтруда 5. Поскольку эта кампания была первой в череде ей подобных и решение о ее начале принималось на самом высоком уровне, то ЦК ВКП(б), четко отслеживавший проведение данной кампании, осуществлял давление на хозорганы и специалистов, несогласных с мобилизацией. На самом верхнем уровне было санкционировано проведение общественно-показательного суда над 3 специалистами, отказавшимися от переброски 6. Проведение этого мероприятия возлагалось на Всесоюзное Межсекционное Бюро Инженеров и Техников (ВМБИТ) 7. Суд над инженерами Качаном и Владимировым состоялся 22 февраля 1931 г. Качан объяснял свой отказ тем, что мобилизован не по специальности: «На работу по обогащению поеду в любую точку СССР, а здесь меня мобилизовали как горняка, на эксплуатацию» 8. Владимиров также считал решение о переброске ошибочным, так как его специализация не подходила под распоряжение 9. Надо сказать, что эти аргументы находили отклик у других ИТР, и, как указано в отчете ВМБИТ о процессе, «нужный эффект» достигнут не был 10.
Другой важной причиной уверенной позиции ИТР было то, что их нежелание подчиняться переброскам активно поддерживали руководители ведомств и предприятий. Сам механизм проведения кампаний оказался запутанным. Кампании проводились непоследовательно, принятые постановления зачастую противоречили друг другу, дублировали одни и те же действия разных органов, устанавливали очень сложную систему согласований 11, а специалистов снимали с важных и ответственных постов, подрывая работу предприятия. Это вызывало сильнейшее сопротивление хозяйственников, проявлявшееся под разными предлогами – от возбуждения ходатайств об оставлении отдельных специалис- тов и до распоряжений по своей линии о невыполнении постановлений НКТ СССР 12.
Таким образом, сопротивление переброскам со стороны руководителей предприятий выражалась в стремлении отменить как распоряжения по поводу отдельных специалистов, так и стремлении защитить отдельные предприятия и даже ведомства от изъятия специалистов. Уже на начальном этапе проведения кампаний специалисты и руководители наркоматов, ведомств и учреждений являлись в межведомственную комиссию по перемещению специалистов имея на руках различные «охранные грамоты», подписанные руководителями отдельных ведомств, в числе которых далеко не последнее место занимали отдельные члены президиума ВСНХ СССР 13 .
Итак, в сопротивлении специалистов и руководителей проявлялась характерная для технической интеллигенции корпоративность, когда специалисты разных уровней и в аппарате и на производстве поддерживали и защищали друг друга. Хотя до открытого сопротивления дело доходило редко. Чаще мобилизации удавалось избежать при помощи комбинации разных методов. Так, в документах органов труда встречаются записи, что специалистов невозможно откомандировать, поскольку неизвестно их местопребывание 14.
Чтобы избежать нежелательной утечки специалистов, как-то закрепить их на новом месте, для перемещенных специалистов вводились специальные льготы. Союзный и республиканские НКТ неоднократно уделяли внимание этому вопросу. 9 октября 1930 г. НКТ СССР издал важное постановление «О заработной плате откомандированным специалистам», согласно которому заработная плата откомандированным специалистам в течение первого года работы должна была выплачиваться не ниже их последнего заработка до откомандирования 15. Помимо этого в указанном выше постановлении НКТ СССР «О переброске 300 специалистов на железнодорожный транспорт» ряд пунктов был посвящен льготам и заработной плате пере- мещенных специалистов. Во-первых, специалистам, направленным на работу в другие местности, выплачивались все компенсации, причитавшиеся при переводах согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 9 ноября 1927 г. «О компенсациях при переводах и при направлении в другие местности» 16. Во-вторых, заработная плата им выплачивалась за время пребывания в пути и дополнительно за 6 дней из расчета их последнего заработка. В счет компенсаций, связанных с переездом, им выплачивался необходимый аванс с окончательным расчетом после прибытия к месту работы. Аванс выплачивался за счет НКПС теми предприятиями и учреждениями, из которых специалисты откомандировывались. В третьих, если переброска подходила под признаки, указанные в законах о льготах для работников в отдельных местностях или вне крупных городских поселений, то специалист пользовался льготами, указанными в этих законах. 21 декабря 1931 г. выходит постановление НКТ РСФСР «Об улучшении материально-бытовых условий ИТР», в котором предусматривался план обеспечения броней в домах отдыха и санаториях – 10 % мест, уход специалистов в отпуск в течение всего года, улучшение жилищных условий 17. Улучшению снабжения ИТР, развертыванию жилищного строительства, обслуживанию национальных кадров по линии ИТР и «чуткому отношению к специалистам коренного населения» был посвящен циркуляр НКТ РСФСР от 16 января 1932 г. 18
Но на деле материальное положение специалистов, особенно на периферии, оставалось плохим. Органы, ответственные за снабжение на местах, часто игнорировали распоряжения правительства, урезали фонды на снабжение, исключали на свое усмотрение из снабжения ряд категорий ИТР. В Сибири из положенного количества пайков для ИТР в 1931 г. выдавалось меньше половины, крайне скверные жилищные условия наблюдались у 30 % специалистов [1. С. 215]. Это обстоятельство только усиливало сопротивление специалистов мобилизационным кампаниям. Невнимание властей к реальному положению ИТР является еще одним под- тверждением того, что хозяйственная функция кампаний была вторичной по отношению к ее идеологической функции.
Массовое противодействие специалистов проводимым кампаниям приводило к тому, что, несмотря на широкое распространение, они не привели к решению кадровой проблемы. В то же время перед технической интеллигенцией вставала дилемма: с одной стороны, переброски создавали проблемы потери привычного мета работы, места жительства, материального положения и, конечно, специалисты сопротивлялись всеми доступными им средствами. Но, с другой стороны, реальным следствием неподчинения специалистов было то, что отказ от переброски зачастую служил поводом для обвинения во вредительстве и негативным аргументом для комиссии по «чистке» 19; проведение перебросок сопровождалось организацией кампаний осуждения этих специалистов, где основными аргументами становились обвинения их в классовом и идеологическом несоответствии новым требованиям времени. Чем больше в той или иной форме специалисты сопротивлялись мобилизационным кампаниям, тем создавалось больше поводов для развертывания против них дискриминационно-репрессивной политики. Примечательно, что, выстраивая по отношению к технической интеллигенции весь спектр поощрений и санкций – от «мягких» до «жестких», партийно-политическое руководство страны преследовало основную цель – превращение специалистов в управляемую и контролируемую группу с приоритетом государственных и социальных интересов над корпоративными и индивидуальными.
Материал поступил в редколлегию 15.10.2007