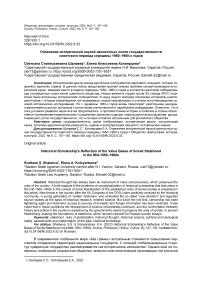Отражение исторической наукой ценностных основ государственности советского периода середины 1950-1960-х годов
Автор: Шалаева Светлана Станиславовна, Колоярцева Елена Алексеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2022 года.
Бесплатный доступ
Историческая мысль всегда выступала инструментом массового сознания, которое сохраняло единство страны. В данной статье представлен краткий анализ проблем концептуализации исторической науки, имевших место в период середины 1950-1960-х годов в контексте некоторой либерализации устоявшегося строя жизни советского общества. Новые веяния в стране после ХХ съезда КПСС позитивно были встречены историческим сообществом. В науку вошло молодое поколение историков-«шестидесятников», которые олицетворяли так называемое «новое направление» и считали источниковедение основой исторических исследований. Но с середины 1960-х годов вновь происходит ужесточение цензуры, ограничивается доступ историков к источникам отечественной и зарубежной информации. Отмечено, что в этих условиях развитие науки все же продолжалось, а противостояние истории и политики в стране объясняется стремлением правительства к сохранению единства социума, недопущения вольнодумства, расшатывающего устои государственности, что и сегодня остается актуальным для российского общества.
Государственность, риски глобализации, историческая мысль, историческая наука, политико-идеологическая реальность, оценки и интерпретация прошлого, исторические знания
Короткий адрес: https://sciup.org/149140702
IDR: 149140702 | УДК: 930.1 | DOI: 10.24158/fik.2022.6.32
Текст научной статьи Отражение исторической наукой ценностных основ государственности советского периода середины 1950-1960-х годов
нации. Государства по-прежнему не утратили регулятивных инструментов, мотивирующих консолидацию народов, проживающих в их территориальном пространстве. Не менее важной выступает задача укрепления ценностных основ государственности для нашей страны с её континентальными масштабами и полиэтническим, поликонфессиональным составом населения, так как любое ослабление её единства и территориальной целостности может вести к негативным последствиям, усугубляемым глобальными рисками.
Во все времена мощным инструментом формирования в массовом сознании мысли о необходимости сохранения национальной и государственной общности страны вступала отечественная историческая наука. Именно история, «поколений связующая нить», выполняла формирующую функцию, обеспечивающую сохранение страны, её самоидентификацию в мире. История и на современном этапе остается орудием идейной борьбы различных политических сил, имеющих неоднозначное отношение к оценкам прошлого. «Проблематика взаимоотношения исторической науки с политико-идеологической реальностью сохраняет актуальность и ныне. В современной историографии осознается неустранимость» идеологизированного воздействия на исторические представления (Шалаева, Волкова, 2015: 197). По-прежнему затруднения в области методологии истории вызывает проблема познающего субъекта, детерминированность горизонта его видения былой реальности определенными установками, концепциями современного ему времени.
Учитывая, что история, прежде всего, полезна своими уроками, в данной работе поставлена цель проанализировать процесс развития исторической науки в середине 1950–1960-х гг. В данный период в исследованиях историков появились новые концептуальные подходы к интерпретации событий прошлого, которые могли вести к размыванию базовых основ историкокультурной памяти, деформации ментальности населения этого времени. В связи с этим представляет интерес, как в условиях некоторой либерализации политического режима осуществлялись процессы переосмысления устоявшейся к этому времени модели систематизации накопленных исторических знаний.
Новую страницу в жизни общества открыл прошедший в феврале 1956 года ХХ съезд партии, начавший процесс преодоления деформации «ленинских норм» в деятельности партийных и государственных органов, сложившейся традиции миропонимания в контексте только сталинских представлений. На съезде с критических позиций оценивался «Краткий курс» истории партии, определявший прежде всю направленность деятельности по исследованию исторических событий как в ретроспективе, так и в текущей реальности.
В стране набирал обороты процесс реабилитации репрессированных людей, формировалось представление о том, что осуждению граждане подвергались без веских на то причин. Эти тенденции оказывали влияние на умонастроения творческих работников. В литературу и публицистику проникали сюжеты и персонажи, игнорируемые исторической наукой. Все эти процессы не могли не находить отклик в среде ученых, которых не менее напрягало двоемыслие в жизни и науке, конформизм как стиль существования (Кожурин, 1998: 156).
Ускорению процесса десталинизации массового сознания во многом способствовал доклад Н.С. Хрущева на закрытом заседании съезда «О культе личности и его последствиях», в котором подвергалась осуждению репрессивная практика сталинского режима, деятельность самого И.В. Сталина, приведшая к попустительству беззакония в стране. В докладе подчеркивалось, что культ личности не свойственен марксизму-ленинизму, и умалчивалось о том, что он был одним из побочных следствий сформировавшейся в стране политической системы. Эвфемизм «культ личности» позволил поколению соратников И.В. Сталина, пришедшему к власти, устанавливать границы практике разоблачения преступлений режима. В зоне умолчания оставались многие события, порождённые большевизмом, что было неизбежно при существующем в то время раскладе сил в партийном руководстве (Шейнис, 2006). После съезда сообщённая его делегатам информация стала достоянием всей страны, а сам доклад Н.С. Хрущева – крупнейшим событием в её социально-политической жизни.
Вместе с тем развенчание культа личности И.В. Сталина в сознании людей, воспитывавшихся в духе беспредельной ему преданности, привело к серьёзным последствиям в социуме, к десакрализации авторитетов, к «расколдованию» коммунистической риторики. И хотя Н.С. Хрущев считал, что достижение идеалов коммунизма будет обеспечено уже при жизни поколения его современников, существенно ослабла уверенность людей в том, что это реально осуществимо. Вместе с тем концептосфера советского коммунизма обеспечивала легитимность социального порядка и обосновывала значение грандиозных планов переустройства страны (Батыгин, Рассохина, 2002: 61).
Новые веяния позитивно воспринимались в среде профессиональных историков. За годы идеологического прессинга большинство из них не утратило навыков научного анализа первоисточников. Учёные получили доступ к архивам, широко публиковались документальные материалы, мемуарная литература.
Однако дух уходящей эпохи не исчез, политическая система страны сохранила запас прочности, продолжала регулировать процесс пробуждения общества от монополии единомыслия. Особое внимание по-прежнему уделялось идеологическому контролю освещения истории. Руководством страны поддерживались процессы возрождения творческого духа в среде профессиональных историков, однако наряду с этим осуждалась «излишняя самостоятельность» в поиске новых подходов в изучении истории. Те историки, которые в понимании прошлых событий, выходили за пределы, дозволенные властью, несли суровые наказания.
В 1956–1957 гг. объектом нападок со стороны руководящих сил стал единственный в то время общесоюзный исторический журнал «Вопросы истории», во главе которого стояли академик А.М. Панкратова и Э.Н. Бурджалов. В издании, не посягавшем на идеологические устои, разворачивались дискуссии, освещались исторические факты, которые подвергались фальсификации в сталинское время. Однако не слишком привычная в ту пору линия журнала на открытость и остроту выступлений его авторов, встретила неприятие у высокопоставленных противников обновления. Руководителей издания подвергали жёстким проработкам за отступление от принципа партийности исторической науки, за стремление в очернительском плане пересмотреть отечественную историю. «Кампания критики позиции журнала велась под флагом защиты марксистско-ленинской методологии и неприятия “объективистского подхода”» (Пыжиков, 2002: 226, 227). В марте 1957 г. ЦК КПСС было принято постановление «О журнале “Вопросы истории”», в котором обосновывалась значимость соблюдения историками марксистской направленности исторических исследований. Главному редактору А.М. Панкратовой было указано на серьезные недостатки в руководстве журналом, её заместитель Э.Н. Бурджалов был снят с работы. Не выдержав прессинга острой критики, уже тяжелобольная, А.М. Панкратова умерла.
Однако после ХХ съезда сохранить привычный status quo в исторической науке становилось сложнее. В пространство советской исторической науки входило молодое поколение исто-риков-«шестидесятников», с профессиональной деятельностью которых связывается появление «нового направления», обеспечившего существенное укрепление методологии исторического источниковедения как исходной основы исторических исследований, препятствующей искажению прошлого. На необходимость укрепления этого направления, в том числе источниковедения как основы советской документалистики, неоднократно указывал академик М. Тихомиров.
Заметную роль в реанимации значимости источниковедения сыграл Институт истории АН СССР, руководил которым А.Л. Сидоров, придерживавшийся в прошлом ортодоксальных взглядов. Но именно вокруг него образовалась группа молодых исследователей (К.Н. Тарнов-ский, П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер), придававших в своей работе большое внимание изучению и анализу исторических первоисточников. Важность методологии исторических исследований признавалась и другими молодыми учеными – В.П. Даниловым, Н.А. Ивницким, М.А. Вылцаном, И.Е. Зелениным, внесшими большой вклад в становление аграрной истории.
Стремление исследователей нового толка вернуть в науку поиск достоверных исторических знаний в ходе более глубокого изучения первоисточников, их сопоставления не было должным образом оценено. Перемены в области познания прошлого не оказались устойчивыми. С начала 1960-х годов, импульсы, приданные развитию исторической науки процессом её десталинизации стали затухать (Сидорова, 2001: 196). На очередном ХХI съезде партии тема культа личности уже отсутствовала (Пыжиков, 2003: 54). В период подготовки к 20-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне начался новый этап переоценки деятельности И.В. Сталина. В стране вновь реанимировалась память о нем как о великом военачальнике, обусловившая укрепление очередного идеологического диктата в области познания прошлого. Возвеличивание личности И.В. Сталина, особенно в контексте военной истории, в очередной раз служило упрочению позиций новой руководящей элиты, пришедшей к власти в стране после отставки Н.С. Хрущева.
Начатый в период «оттепели» процесс либерализации общественно-политической жизни в стране усиливал опасность радикализации перемен, которые в условиях отсутствия реальных возможностей для их реализации могли привести к негативным последствиям – разрушению гарантируемого государством социального порядка. Достижение стабильности общества новые руководящие силы связывали с переходом к умеренно-консервативному курсу в политике и идеологии. В стране вновь ужесточалась цензура. Как и прежде, для исследователей был ограничен доступ к источникам отечественной и зарубежной информации. В сфере идеологии сохранялись пределы, за которые выходить не допускалось. В целях политической целесообразности использовалась манипуляция историей (Каменский, 2006: 22). В таких условиях профессиональным историкам было сложно обеспечивать объективный прогресс в исследовании прошлого, так как это требовало проявления несогласия с политикой партии.
Вместе с тем и в среде историков были те, кто стремился выйти из границ насаждаемых сверху идеологических схем, но это крайне негативно отражалось на их дальнейшей судьбе. К примеру, жёсткому преследованию подвергся историк В.М. Алексеев, исключенный из партии за сочувствие мятежным венграм, выступавшим против насаждения в их стране советских порядков. Учёному долгие годы пришлось работать «в стол» (Стыкалин, 1998: 173).
Важным событием в жизни сообщества историков Академии наук были выборы «демократического парткома» Института истории, в который не вошли представители институтской администрации. Избранные в руководящий орган института молодые ученые В.П. Данилов, К.Н. Тар-новский и их единомышленники отстаивали необходимость пересмотра многих исследовательских схем, устоявшихся в исторической науке. Упоминание учёными института фигур умолчания – Л.Б. Каменева, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина – в руководящих кругах было воспринято в качестве реабилитации оппортунистских уклонов. В 1967 г. работу парткома института проверила комиссия Московского горкома партии, которая в итоговой справке критической оценке подвергла научную деятельность Е.Г. Плимака, М.Я. Гефтера и др.
Учёные института по-новому подходили к интерпретации многих сюжетов отечественной истории: признавали высокую степень развития капиталистических отношений в стране дореволюционного времени, не исключали возможность создания единого блока демократических сил в борьбе с самодержавием, проявляли интерес к дореволюционной исторической мысли, отстаивали правомочность существования концепции цикличности истории, а не только линейного прогрессизма, поднимали проблему цены революции. Все эти новые концепции нашли отражение в вышедшей в свет в 1969 г. книге «Историческая наука и некоторые проблемы современности» (Данилова, 2007: 47). Однако этот труд со стороны властных структур был предан осуждению.
Стагнация интеллектуальной мысли в стране, противоречивость движения к социальному прогрессу – всё это, отражаясь в общественном сознании, способствовало зарождению в СССР диссидентского движения, сторонники которого придерживались неофициальных взглядов либерального толка. Движение объединяло небольшие группы преимущественно столичной интеллигенции, проявляющей неприязненное отношение к официальной идеологии. В это время были заложены основы «самиздата» – машинописных текстов, распространяющихся нелегально, в которых резкой критике подвергались существующие в стране порядки (Савельев, 1998; Козлов, 2003).
Особенно усилилась борьба с инакомыслием после чехословацких событий 1968 года. В стране заглушались зарубежные радиостанции, передающие идеологически неустойчивую для советских людей информацию (Смыкалин, 2011). За политическую неблагонадёжность оппозиционно настроенная часть интеллигенции стала вытесняться за границу, однако идеи, отстаиваемые диссидентами, создавали социально-политические предпосылки для грядущих перемен.
По мере всё более заметного разрыва между идеалами коммунизма и реальным положением дел в стране влияние официальной идеологии ослабевало как внутри страны, так и за её пределами. Желание руководства государства сохранить статус-кво социалистической системы приводило к усилению идеологического нажима, ужесточению цензуры.
Вместе с тем даже в пространстве коммунистической риторики, остающейся лексической формой научных исследований, многим ученым удавалось развивать новые подходы к познанию истории. Выполняя установку власти на обеспечение идейного противодействия буржуазным фальсификациям советского пути развития, учёные имели возможность глубже знакомиться с сущностью некоторых западных научных концепций (Hofstadter, 1992: 64; Шлезингер, 1992). Обновлялся словарный запас обществоведческих наук, появлялась возможность развивать идеи, выходящие за рамки официального идеологического канона (Зудин, 1999: 64). Крупные успехи были достигнуты в области развития методологии исторических исследований, методики анализа источников (Мельников, 1997: 106).
«В современной отечественной историографии признается, что к вытеснению интеллектуальной истории в советский период привела идеологизированность исторических исследований» (Шалаева, Волкова, 2015: 199). Однако следует подчеркнуть, что конфронтация исторической науки и политики имеет давнюю историю. И исследуемый период мало чем отличался от предшествующих, являясь не лучшим, но и не худшим в отечественной истории. В любой стране правительство в стремлении обеспечивать социальный порядок, стабильное развитие общества, прибегает к различным формам воздействия на население, поддерживает то, что укрепляет позиции государственности, пресекает то, что угрожает обществу дестабилизацией. Любой поли- тический режим, определяя меру свободомыслия, исходит из собственных ресурсных возможностей обеспечивать действия по нормализации ситуации, когда она выходит из-под контроля, определяет степень ответственности за негативные последствия популяризации радикальных идейных крайностей. Забегание вперед в обретении свобод, которыми общество не готово было конструктивно воспользоваться, могло привести к негативным последствиям – разрушению установившегося строя жизни общества.
Следует отметить, что ослабление государственного регулятивного воздействия на формирование исторических представлений нежелательно и сегодня, в связи с чем более востребованными в организации исследований прошлого являются подходы, обеспечивающие консолидацию общества. Кроме того, политически целесообразными выступают задачи формирования положительного образа государственности, её значения в сохранении стабильности и социальной солидарности в стране. В современных исследованиях подчеркивается, что не всякое общество способно выстроить государство, для этого необходимы определённые условия, прежде всего, складывание культурной и психологически однородной общности, существование «духа нации», общей системы ценностей, патриотизма. Вне такой общности возможен распад нации, её дробление на этнические фрагменты. Поэтому и сегодня важно средствами истории обеспечивать сохранение государства в контексте его значения как формы и способа антропологического бытия, выживания всего населения страны в условиях глобализационных рисков.
Список литературы Отражение исторической наукой ценностных основ государственности советского периода середины 1950-1960-х годов
- Батыгин Г.С., Рассохина М.В. Семантический коллапс коммунизма. Дискурс о будущем в журнале «Новый мир», 1950-гг. // Человек. 2002. № 6. С. 61-77.
- Данилова Л.В. Партийная организация Института истории АН СССР в идейном противостоянии с партийными инстанциями. 1966-1968 гг. // Вопросы истории. 2007. № 12. С. 44-80.
- Зудин А.Ю. Культура советского общества: логика политической трансформации // Общественные науки и современность. 1999. № 3. С. 59-72.
- Каменский А.Б. Российские реформы: уроки истории // Вопросы философии. 2006. № 6. С. 21-39.
- Кожурин В.С. Рецензия на книгу: Сидорова Л.А. Оттепель в исторической науке. Советская историография первого после сталинского десятилетия. М., 1997 // Вопросы истории. 1998. № 10. С. 156-158.
- Козлов В.А. Крамола. Инакомыслие при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. // Отечественная история. 2003. № 4. С. 93-111.
- Мельников Ю.Н. Цикличность в истории России // Общественные науки и современность. 1997. № 5. С. 103-107.
- Пыжиков А.В. Историческая наука в годы «оттепели» // Социально-гуманитарные знания. 2002. № 6. С. 221-230.
- Пыжиков А.В. Проблема культа личности в годы хрущевской оттепели // Вопросы истории. 2003. № 4. С. 47-57.
- Савельев А.В. Политическое своеобразие диссидентского движения в СССР 1950-1970-х годов // Вопросы истории. 1998. № 4. С. 109-121.
- Сидорова Л.А. «Шестидесятники» в исторической науке России. Рецензия на книгу: Markwick R.D. Rewriting History in Soviet Russia. The Politics of Revisionist Historiography, 1956-1974. Palgrave, 2001 // Отечественная история. 2001. № 5. С. 195-197.
- Смыкалин А.С. Идеологический контроль и Пятое управление КГБ СССР в 1967-1989 гг. // Вопросы истории. 2011. № 8. С. 30-40.
- Стыкалин А.С. Еще раз о трактовке венгерских событий 1956 года // Вопросы истории. 1998. № 10. С. 172-175.
- Шалаева С.С., Волкова М.Б. Модернизационные изменения теоретическо-методологического изучения исторической науки конца ХХ начала XXI века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 4-1 (54). С. 197-200.
- Шейнис В.Л. ХХ съезд КПСС: история и современность // Общественные науки и современность. 2006. № 4. С. 114-116.
- Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М., 1992. 685 с.
- Hofstadter R. The Progressive Historians: Turner, Beard, Parrington. N. Y., 1968. 336 р.