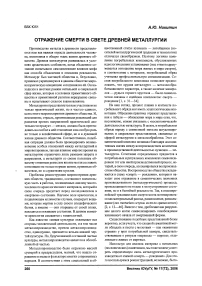Отражение смерти в свете древней металлургии
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена семантическому анализу проявлений древнего производства в архаичных (комплексных) обществах. Автор рассматривает соотношение и взаимовлияние таких сфер жизнедеятельности человека, как погребальный обряд и металлопроизводство сквозь призму экзистенциального подхода.
Короткий адрес: https://sciup.org/147150381
IDR: 147150381 | УДК: ББК
Текст научной статьи Отражение смерти в свете древней металлургии
На наш взгляд, процесс плавки в контексте погребального обряда мог иметь эсхатологические коннотации. Обрядовая практика отражает представления о гибели — обновлении мира в мире огня, что, несомненно, можно увязывать с «космогонической» деятельностью металлурга. В целом, в погребальном обряде наряду с символикой металла актуализировались и сакральные представления, связанные со сферой металлургии и металлообработки. Этот семантический комплекс возникал благодаря ассоциативным связям между воспроизводством коллектива и производственной деятельностью кузнецов — металлургов. Сочетание определенных предметов в погребальных и ритуальных комплексах символизировало тот или иной производственный процесс, который, в свою очередь, ассоциировался воспроизводством общества. Воспроизводство общества укладывается в схему «смерть — рождение», которая и находит свое отражение в семантических значениях производственного (металлургического) процесса, происходившего не только в «потустороннем» состоянии, но и в бытийной реальности. Так, в индоевропейской традиции идея смерти могла мотивироваться как материальный распад, размельчение, размалывание (лат. mortarium «ступа» из mr-to «размолотое») [2, с. 12—46]. Вместе с тем, дробление как разрушение целого могло символизировать освобождение жизненного начала от омертвевшей формы.
Существование подобных представлений более вероятно, если учесть, что сходной семантикой могли обладать и песты с молотами — как «каменные стражи» у врат погребальной камеры, свидетельствовавшие о ритуале «перехода — порога», отделяющего живых от мертвых.
Используя для анализа материал с витальных (поселенческих) памятников, мы тоже можем усмотреть определенную связь металлургического производства со схемой «смерть — рождение». Для этого воспользуемся реконструкцией, возможно, быто- вавших в то время теплотехнических сооружений (производственные комплексы).
Производственные комплексы подразумевают существование определенной системы ритуалов. Печь для плавки металла, так же как колодец или просто яма, в мифо—ритуальной практике рассматривается в качестве своеобразного канала — прохода из одной сферы в другую, где добываются необходимые блага — вода, металл. Технологические процессы (металлургические) входили в общую космологическую схему, выступая в качестве своеобразного продолжения операций по символическому созданию и воссозданию вселенной. Таким образом, технологическое совмещение печи и колодца на символическом уровне обнаруживает сходство со структурой мифологической, которая отображает восприятие человеком того времени отношения между жизнью и смертью, бытием и небытием. Применительно к данной ситуации можно говорить о единстве структур развертывания разных содержаний, а именно содержания производственной деятельности и мифологических представлений [1, с. 142—143; 3].
Символизм этих сооружений обогащается и тем, что археологически фиксируется разделение жилищ на две пространственные сферы — жилую и производственную. Планиграфическое разделение указывает на определенную боязнь и преклонение перед людьми, осуществлявшими металлургические процессы, как некий демиургический акт, связанный в первую очередь с «умертвлением» действительной реальности (под этим мы понимаем топливо, руда и проч.) Этому не противоречит и метафизическая наполненность сакрализованных элементов, которые участвовали в этом акте. Так, если ввести универсальную модель (по цветовым характеристикам), то можно определить основные элементы «модели мировосприятия» в системе «смерть — жизнь», где металлургия будет выступать одновременно как субъект, так объект, что укладывается в рамки гегелевского положения о единстве — противоположностей. Верхняя часть мира (жизнь) будет красного, белого, синего цвета, а это — огонь, дух, бог; нижняя (смерть)—черный, тусклый—мертвый человек, углубление, яма. В свете восприятия вещественного мира (археологической информации) всё это будет соответствовать протекавшим металлургическим процессам, так как будет происходить последовательный переход из черного (топливо, руда) в красное (огонь, металл, предмет). То есть вначале будет жизнедающая смерть [4, с. 160—161].
Наиболее часто мы (археологи) сталкиваемся с проявлением смерти в погребальных сооружениях, оставленных нам носителями определенного нравственно —- этического и мифологизированного восприятия реальности.
Древние захоронения являются остатками физического аспекта ритуальной деятельности человеческого сообщества. Существование ритуала, тра- диции и определенного мировосприятия подразумевает присутствие некоего идеологического, чувственного звена, которое и определяет его форму. Это же чувственное звено является определяющим при формировании всех циклов погребального обряда, как проявления бытия смерти.
Погребальное сооружение, как проявление бытия смерти, представляет из себя комплекс, независимый от культурно ■— хронологической принадлежности, всегда имеющий внутренние и внешние составляющие, где сооружения ниже почвы отображают мир смерти, подкурганное пространство — средний мир, а надмогильная насыпь отображает идею верхнего мира. Возведение погребальных сооружений есть практика обращения с умершими, которая является своего рода попыткой культурно—духовного преодоления противоречия между Жизнью и Смертью [5].
Стоит отметить, что появление курганной традиции совпадает со временем появления предметов из металлургической меди. То есть всеобщее восприятие идеи универсального погребального комплекса происходит в период изобретения примитивной плавильной печи и становления металлургии меди. Смерть как переход, как некое изменение образа сущности сближает погребальный ритуал с металлургией. В погребальной практике (то есть овеществленной смерти) присутствуют две константы: останки погребенного и надмогильное сооружение, а в системе древней металлургии данные константы отображаются в виде теплотехнического сооружения — печи — которая также состоит из двух неизменных компонентов: купола перекрытия над плавильной полостью и рудой.
Что же происходит при металлургических манипуляциях со связкой «смерть — жизнь», как в смерти предстает все своеобразие вечной жизни, в которой вдруг оживают и становятся активными все потенциальные силы Бытия?
Все компоненты металлургического процесса проявляют в момент взаимодействия способность и готовность к изменению, преображению сути. Переходная стадия подразумевает необходимость преобразования, трансформации, преображения сути. Так вот эта переходная стадия и олицетворяется смертью как таковой. Попадая в поле действия металлургического процесса, компоненты уже не в коей мере не принадлежат вещному миру, а относятся к миру «по ту сторону бытия»; но в тоже время, сохраняют внутри себя определенный заряд энергии, который согласно второму закону термодинамики не исчезает бесследно, а переходит на другой качественный уровень.
Постоянное воспроизведение древним человеком некоторых жизненно необходимых процессов довольно настойчиво демонстрировало образные примеры превращения вещества.
Во-первых, это манипуляции с огнем, который несет тепло (жизнь), но в тоже время приносит и смерть (пожар, погребальный костер). Во-вторых, выразительно — объектный процесс изготовления керамической посуды, когда из аморфного куска глины возникает прекрасно—изящный сосуд, который только после воздействия огня (как части смерти — жизни) становится конструктивно — стабильной формой — керамикой. В-третьих, необычайно эффектная по своему внешнему виду и чувственно воспринимаемая металлургия меди.
Технология производства металла (меди) способна очень красочно продемонстрировать процесс качественного преобразования вещества. На глазах древнего человека синие (азурит) и зеленые (малахит) камушки теряют свой ярко-живописный цвет, исчезают в языках пламени и появляются уже в виде блестящего металла, по своим характеристикам в корне отличающегося от первоначального состояния. Налицо образная картина перехода вещества из одного состояния в другое, впечатляющая уже тем, что жидкому металлу (состояние «смерти — жизни», оптимально близкое к состоянию динамического равновесия) можно придать любую форму любого изделия, тем самым объективизировать дихотомию Смерть—Жизнь. Вид этих процессов не мог не найти отражение в глубинах древнего сознания.
Стоит добавить, что при проведении металлургических манипуляций человек автоматически исключался как активное звено из процесса в самый наивысший момент его накала. Подготовив и запустив процесс и обеспечив успешное его протекание, металлург не имел возможности свободно созерцать сам момент перехода руды в новое состояние. Он имел дело уже с раскаленным жидким металлом. Он лишь обеспечивал выход трансформирующей мощи огня, подчиняясь определенному порядку, заданному заранее, поскольку металлургический процесс представляет собой совокупность режимов, установленных законами физики и химии. В данном случае, момент наивысшего накала, уместно сопоставлять с наступающей смертью, или же момент пребывания в ней, когда человеческое сущее не коим образом не может повлиять на дальнейшие процессы, воздействующие на староновую форму бытия.
Тем самым, появление металлургии и обусловило её влияние на понимание «дления» бытия и его прекращения — «смерти-жизни». Вследствие этих процессов, примитивная медеплавильная печь, конструкция которой последовательно реализовывала таинство перехода вещества в новое состояние, неизбежно должна была выступить в роли теоретической конструкции погребального сооружения, как места смысловой объективации смерти. Именно печь четко и точно иллюстрирует процесс, определивший основную роль курганной конструкции в погребальной и некротической обрядности — места, где происходит преобразование исходного объекта (погребенного) из одного состояния в другое. Процесс же получения меди в ходе металлургического процес- са дает умозрительный образец Возрождения вещества (руда, минералы) к новой, более прекрасной жизни (горячий металл «солнечного» цвета, новые блестящие предметы и изделия).
Прототип курганной конструкции предоставил в распоряжение архаического сознания видимый, вещный образ места, где совершался переход к состоянию новой, прекрасной жизни после смерти в том или ином виде. В контексте архаического сознания древний металлургический процесс, и связанное с ним его материальное воплощение можно отождествлять с идеей священного места, заключившего в себе таинство посмертной метафизической трансформации Субъекта, его перехода в новое состояние, с ожиданием последующего Возрождения.
По нашему представлению архаическое решение дихотомии Жизнь — Смерть преодолевается при помощи чудодейственной силы огня, которая является основополагающей и при металлургических процессах. Для носителей такой мировоззренческой позиции фактически не существовало такого понятия как «смерть». Осуществив перенос процессуальных законов в древней металлургии на погребальную культуру, древние оставили нам определенные памятники, которые положили начало формированию северного блока культур — блока курганных культур огненного культа [6, с. 6—10]. Но и своими первыми и робкими шагами показали нам, что смерти как таковой нет, а есть только круговорот бытия, который может принимать разнообразные формы.
Список литературы Отражение смерти в свете древней металлургии
- Русанов, И.А. О роли металлургии в становлении и идеологии древних обществ евразийских степей/И.А. Русанов//Человек в пространстве древних культур. Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 2003. -С. 31-34.;
- Русанов, И.А. Древняя металлургия: субъект и производственный процесс/И.А. Русанов, А.И. Мацына//Там же. -С. 142 -143.
- Топоров, В.Н. Заметка о двух индоевропейских глаголах умирания/В.Н. Топоров//Исследования в области балто-славянской культуры. Погребальный обряд. -М.: Наука, 1990. -С. 12-46.
- Михайлов Ю.И. Мировоззрение древних обществ юга Западной Сибири. Эпоха бронзы/Ю.И. Михайлов. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. -С. 364.
- Никитин, А.Ю. Семантика древнего производства/А.Ю. Никитин//Археология Урала и Поволжья: Итоги и перспективы участия молодых исследователей в решении фундаментальных проблем ранней истории народов региона. -Йошкар-Ола: Марийский гос. пед. ун-т, 2003. -С. 160-161.
- Смирнов, Ю.А. Лабиринт: Морфология преднамеренного погребения/Ю.А. Смирнов. -М.: Восточная лит-ра, 1997. -С. 279.
- Мацына, А.И. Идея кургана: к вопросу о смысловой основе/А.И. Мацына, А.Ю. Никитин, И.А. Русанов//Вестник ЧелГУ. Серия «История». -2002. -№ 1 -С. 6-10.