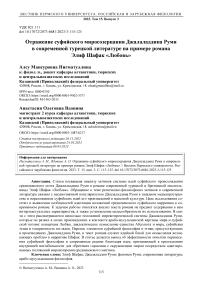Отражение суфийского миросозерцания Джалаладдина Руми в современной турецкой литературе на примере романа Элиф Шафак «Любовь»
Автор: Нигматуллина А.М., Вдовина А.О.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу мотивов системы идей суфийского происхождения средневекового поэта Джалаладдина Руми в романе современной турецкой и британской писательницы Элиф Шафак «Любовь». Обращение к теме религиозно-философских мотивов в современной литературе связано с неоднозначной популярностью Джалаладдина Руми в западном медиапространстве и переложением суфийских идей его произведений в массовой культуре. Цель исследования состоит в выявлении особенностей адаптации положений средневекового суфийского нарратива в современном романе. К задачам работы относятся анализ текста романа на предмет содержания в нем интертекстуальных характеристик, а также установление целесообразности их использования. В связи с этим рассматриваются несколько положений мировоззренческой системы Джалаладдина Руми, которые он развил в своих произведениях в контексте арабо-мусульманской картины мира и суфийской поэзии: концепция Любви, диалектическое осмысление единства Абсолюта и мира, суфийская этика и толерантность взглядов. Перенос элементов суфийской философии и этики, присутствующих в произведениях Джалаладдина Руми, в текст романа служит идейной базой для осмысления возникающих проблем в нарративе Шафак. В статье делается вывод об эффективности попытки перенесения суфийской философии в современные реалии благодаря идее, призывающей к преодолению внутренней нестабильности для обретения гармонии с окружающим миром посредством адаптированных положений мировоззрения средневекового мистика.
Элиф шафак, джалаладдин руми, феномен руми, современная литература, арабо-мусульманская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/147241899
IDR: 147241899 | УДК: 821.111 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-115-125
Текст научной статьи Отражение суфийского миросозерцания Джалаладдина Руми в современной турецкой литературе на примере романа Элиф Шафак «Любовь»
Элиф Шафак родилась во Франции в турецкой семье и провела детство в Европе, после чего вернулась на историческую родину, где получила высшее образование в гуманитарной сфере. Мультикультурный опыт, полученный Шафак в детстве, послужил важным фактором в формировании ее творческого пути. В Турции Шафак признается самой популярной женщиной-писательницей. Ее литературные бестселлеры переведены более чем на 30 языков. Являясь активным правозащитником национальных и сексуальных меньшинств, в своих произведениях Ша-фак затрагивает такие темы, как толерантность, космополитизм, мультикультурализм, жизнь мигрантов и взаимоотношения восточной и западной культур. Элементы восточной, в особенности турецкой, культуры обычно являются идейным содержанием ее произведений.
Роман “Aşk” (с тур. «Любовь»), опубликованный в 2009 г., рассказывает историю американской домохозяйки, переживающей кризис среднего возраста, Эллы Рубенштейн. Повествование в романе разделено на два сюжетных пласта: история Эллы и средневекового поэта-мистика Джалаладдина Руми, чью историю главная героиня узнает, читая книгу Азиза Захары, странствующего дервиша и, впоследствии, любовника героини. Шафак пользуется сюжетным параллелизмом судеб персонажей для передачи своей идеи. В начале повествования оба персонажа живут в условиях иллюзорной защищенности (у Эллы она выражена описанием достигнутой «американской мечты» с необходимыми материальными и социальными ценностями, у Руми – социальным статусом духовного лидера, которому в средневековом восточном обществе придавали большое значение). По мере развития сюжета персонажи начинают чувствовать внутреннюю неудовлетворенность комфортной жизнью (у Эллы она выражается исчезновением духовной связи с мужем, у Руми – «внутренней пустотой» и тревожными снами), которая исчезает с появлением их духовных наставников, странствующих дервишей, проповедующих суфизм (Азиза и Шамса). Содержание суфийской мысли в романе передается через систему сорока правил Шамса, которые заставляют Эллу и Руми пересмотреть свои ценности и мировоззрение и достичь гармонии с окружающим миром даже после смерти наставников. Повествование в романе ведется от нескольких лиц, которые встают на «путь любви», что служит связующим звеном для основной идеи романа – равенства всех перед Абсолютной Истиной.
Роман «Любовь», как и другие романы «британского» периода творчества Элиф Шафак, может быть отнесен к мультикультурной литерату- ре, но в научном сообществе по всему миру принято рассматривать произведение в контексте турецкой литературы (см. подробнее: [Hüküm 2010; Furlanetto 2013; Çanaklı 2020; Репенкова 2014, 2016; Головина 2019]). Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, окончательный турецкий вариант романа, который на английском языке был опубликован под названием “Forty Rules of Love” («Сорок правил любви»), был отредактирован и переписан самой Шафак. Во-вторых, формально роман обычно рассматривается в контексте турецкого постмодернизма, который имеет свои особенности и традицию изложения (см. подробнее: [Hüküm 2010; Репен-кова 2014, 2016]). В-третьих, содержание романа изобилует восточным нарративом, который во многом становится ясен в прочтении турецкого варианта романа. Авторы данной статьи также склонны к проведению анализа турецкого варианта из-за специфики темы исследования, хотя и не исключают из него английскую версию.
Джалаладдин Мухаммад Балхи1 принадлежит к числу великих поэтов средневекового Востока. Он передал Отражение суфийского миросозерцания Джалаладдина Руми в современной турецкой литературе на примере романа Элиф Шафак «Любовь». После вынужденной миграции из государства Хорезмшахов и долгих скитаний по Ближнему Востоку семья Руми осела в Конье, культурной столице Малой Азии в XIII в., где в равной степени можно было ознакомиться с различными мировоззренческими идеями. Мистическая составляющая его учения сформировалась под воздействием мировоззренческих установок Шамседдина Табризи, который, по всей видимости, проповедовал взгляды, представляющие собой синтез основного исламского вероучения, учения странствующих дервишей и одного из теоретиков суфизма Бистами, призывал к национальному равенству и не признавал официальной власти [История… 2020: 229].
В течение последних десятилетий образ Джа-лаладдина Мухаммада Балхи пользуется большой популярностью в западном медиапространстве. Различные инфлюэнсеры в контексте поп-культуры создают свои произведения по мотивам его поэзии.
Подъем интереса к фигуре Руми, начавшийся в конце XX в., обусловлен, по мнению Елены Фурланетто, несколькими причинами. Во-первых, содержание его идей может способствовать выходу из личностного кризиса отдельно взятого индивидуума в контексте духовного кризиса современного общества. Нестабильная международная ситуация, вызванная террористическими актами, осознание внутренней несвободы, как правило, провоцируют общество искать непри- вычные для него нравственные ориентиры, среди которых, наряду с новой волной интереса к супергероике, оказались труды Руми на рубеже XX–XXI вв. Во-вторых, манера изложения Джа-лаладдином Руми сложных теоретических основ суфизма в поэтической форме привлекает современного читателя. Толерантность взглядов и эклектизм учения позволяют в той или иной мере находить ответы на актуальные спорные вопросы. В-третьих, столь повышенный интерес поп-культуры к исторической личности средневекового Востока может быть вызван тем фактом, что современное общество (Фурланетто рассматривает американское общество) старается отойти от религиозных догм и ограничений, что нашло свое место в творчестве Руми [Furlanetto 2013: 203].
В данном работе рассматриваются основные суфийские мотивы, отобранные писательницей с целью адаптации их под собственный нарратив. Авторы статьи анализируют корреляционные связи между романом Элиф Шафак и источниками, из которых были заимствованы суфийские положения Мевляны, с целью выявить целесообразность использования средневековых восточно-мистических контекстов в романе.
Адаптация суфийского миросозерцания Руми в романе достигается использованием приема интертекстуальности, свойственного литературе постмодернизма [Saeed 2018; Hüküm 2010: 638]. Шафак погружает повествование в обширную систему аллюзий на феномены восточной культуры. Например, Амна Саид находит в тексте романа интертекстуальные связи с кораническим текстом [Saeed 2018: 5]. Шафак вводит в повествование текст суры Аль-Ниса, которая устанавливает отношения между мужчиной и женщиной в исламе, после чего приводит ее альтернативное толкование словами персонажа Шамса, который прибегает к суфийской практике многоуровневого прочтения Корана с целью выявления скрытых смыслов. В данном случае суфийский нарратив используется, чтобы «смягчить» изначально заложенный смысл и добавить современный феминистический дискурс [Şafak 2009: 243].
Также в тексте романа присутствуют отсылки к кораническим историям. Например, чтобы проследить связь наставника – ученика между Азизом и Эллой, Шамсом и Руми соответственно, Элиф Шафак вводит историю Хидра, который отождествляется в Коране с неизвестным «рабом Аллаха», поучавшим Мусу [ibid.: 357–358]. Чтобы описать страсть безответной любви, испытанной Кимьей, дочерью Руми, по отношению к Шамсу, Шафак вводит историю Зулейхи. Через персонажа Шамса, который не отвечает взаимностью на желания Кимьи консумировать их брак, Шафак вводит отсылку к Юсуфу, кораническому персонажу, уличившему Зулейху в прелюбодеянии [ibid.: 380]. Братья Алааддин и Султан Ве-лед, оба жаждущие получить одобрение отца, но действующие по-разному, являются отсылкой на историю Кабиля и Хавиля. Султан Велед стремиться поддержать отца в его дружбе с Шамсом, Алааддин в результате неприятия перемен в жизни отца становится причиной смерти дервиша. Интересно, что история Кабиля упоминается в тексте романа одним из персонажей в качестве оправдания преступлений, совершаемых людьми [ibid.: 236].
Также Саид подчеркивает важность присутствия отсылок к персидскому фольклору в тексте романа [Saeed 2018: 6]. Наследие средневековой персидской литературы наложило отпечаток на развитие всех национальных культур мусульманского мира. Такие сюжеты, как «Лейла и Ме-джнун», «Фархад и Ширин», «Соловей и Роза», являются классическими нарративами в литературе мусульманских народов, их упоминание добавляет элементы восточного нарратива в роман [Şafak 2009: 376]. Меджнун, потерявший рассудок из-за трагичной любви к Лейле, становится отсылкой в романе для описания безграничности и избирательности любви [ibid.: 241]. Руми вспоминает о нем в своих размышлениях, когда пытается понять, почему общество требует от него объяснений по поводу дружбы с Шамсом.
На наш взгляд, Элиф Шафак достигает подходящего восточного и исламского контекста для включения аллюзий на идеи Руми, что находит подтверждение в анализе текста произведения.
На начальном этапе исследования суфийских мотивов идейной системы Руми в романе нас интересовало ключевое понятие суфизма. Основная тема, заимствованная Элиф Шафак из поэзии средневекового поэта, – это любовь . Для философии Мевляны любовь является центральным понятием [Джавелидзе 1979: 187]. В «Мас-нави-йи Ма’нави» Джалаладдина Руми любовь является первопричиной всего: «Если бы не было любви, разве было бы бытие?» [Руми Ч. 5: 139–140]. И одновременно выступает энергией, направляющей и движущей мироздание: «Любовь – это целое море, и небо лишь пена на нем,/ [смятением] подобная Зулайхе, охваченной страстью к Йусуфу.// Знай, что вращение небосвода происходит из-за волн любви,/ и если бы не было любви, то застыл бы мир.// Разве [без любви] кристалл уничтожился бы в растении?/ Разве растения стали бы жертвой духа?// Разве дух стал бы жертвой того дыхания,/ от дуновения которого забеременела Марйам?// Все они застыли бы на месте, как лед;/ разве были бы они летающими и ищущими, подобно саранче?» [там же: 244].
Прежде чем перейти к анализу темы любви, необходимо остановится на понимании самой концепции «любви», как в философии Руми, так и в современном медиапространстве. Идея любви в суфийской мысли сформировалась на основе длительного эволюционного процесса. Она берет свое начало, как отдельно выделяемая концепция, в философии Платона, для которого любовь существует в форме эроса. По Платону, первоначальная трансценденция Абсолюта, в результате которой образовалось всё сущее, является, скорее, негативным явлением, потому что образованные из Первоначала формы, потеряв целостность, имеют тенденцию стремиться к своему первоначальному образу в мире эйдосов. Чтобы вернуться в запредельный мир, необходим трансцендентный опыт из привычного физического и интеллектуального состояния. Эрос в данном случае выступает как трансцендентный опыт [Магун; Джавелидзе 1979: 179–180]. Неоплатоники в дальнейшем развивают эту мысль, привнося в нее мистический смысл. Они выстраивают свою трехчастную схему развития космоса, которая должна приводить к слиянию с Божественным Абсолютом [Джавелидзе 1979: 43–86].
На ранних этапах суфийское течение представляется исследователям (см. подробнее: [Nicholson 1914; Бертельс 1965; История… 2020; Насыров 2009]) как аскетическое течение внутри официального ислама с мироотреченческой практикой зухд , идеалы и принципы которой с некоторой долей вероятности были переняты от христианского аскетического мистицизма и к которой, по Николсону, на ранней стадии люди [само]уничтожения (‘ахл ал‑фана) испытывали глубокое уважение [Nicholson 1914: 5]. На раннем этапе аскетическое течение, по всей видимости, не проявляло признаков мистической философии, в которую оно развилось впоследствии под влиянием неоплатонических идей [Кныш 1984: 88]. Как эрос служил способом трансцен-дирования для неоплатоников, так любовь становится чем-то схожим для суфиев, желающих скорее пребывания в Боге, а не самоуничтожения в нем. Учение об отрешенности от земного (зухд) исчерпало свои доктринальные потенции в силу невозможности обеспечить богопознание, к которому стремились суфии на ранней ступени развития течения. Попытки прижизненного приближения к Абсолюту, практиковавшиеся на ранних этапах, приводили либо к отелесению Бога, либо к обожествлению человека. Поэтому под влиянием неоплатоников и их учения о единстве бытия суфии предположительно формируют новый способ постижения Истины (ха-кика) через новые категории «эстетическим языком» [Смирнов 1993: 46], на этапе, который
Кныш называет «эротический мистицизм» [Кныш 2004: 68–75].
Как упоминалось выше, мировоззрение Джа-лаладдина Руми, о котором мы можем судить по его произведениям, может считаться эклектичным. Оригинальным и самобытным можно назвать скорее язык его поэм, но не идеи, описанные этим языком [Джавелидзе 1979: 23]. Опираясь на анализ его поэм, мы можем сказать, что мировоззрение поэта сформировано под влиянием греческой философии, предшествующей традиции арабо-мусульманской философии (ал-Газали, Абу Йазид ал-Бистами, Ибн Араби), поэтического наследия Санаи и Фарид ад-Дина Аттара [История… 2020: 230]. Руми, вслед за предыдущими теоретиками суфизма, представляет любовь в качестве способа достичь первоначального единства с Абсолютом.
В суфийском мировоззрении любовь является центральным понятием, определяющим взаимоотношения с Богом. На этом основании Шафак в своем романе делает любовь основной темой: она определяет взаимоотношения персонажей и выступает решением проблем, возникающих перед ними. Тематическая система в романе может быть схематично представлена в виде круга, центром которого является тема любви. Все второстепенные темы в романе сводятся впоследствии к ней. В начале повествования любовь кажется потребительской идеей, очередным средством достижения поставленных капиталистическим обществом целей (на высказанное за семейным ужином желание дочери выйти замуж по любви за человека, не одобренного родителями, Элла заявляет о ее инфантильности). Любовь выступает в качестве привычной формы отношений между членами социума, она обладает экономическими, социальными, компенсаторными и консолидирующими функциями, что провоцирует людей идеализировать понятие, экстраполировать на него те определения, которые раньше приписывались божественным силам. Например, мы можем найти возможную отсылку на подобный нарратив в английском варианте романа, который был опубликован под названием “Forty Rules of Love” («Сорок правил любви»). Впервые услышав его, читатель может отнести произведение к популярному в современном мире жанру психологии отношений. Аллюзия на идеализирование понятия любви приводит к осознанию незначительности такой любви, которая обладает социальными функциями, но не настоящими чувствами.
После знакомства с книгой Азиза «Сладостное богохульство» Элла идет на сближение с ним, что приводит к переосмыслению героиней концепции любви в соответствии с системой взглядов ее духовного наставника и любовника. Это новое ощущение любви приводит Эллу к осознанию собственной значимости, и на этом примере мы наблюдаем ее внутренний трансцендентный опыт, который в средневековом суфизме считался последней стадией внутреннего роста человека в стремлении его к слиянию с Абсолютом (об этом подробнее ниже). Элла не только преодолевает рамки собственного «Я», когда признает Азиза и свои чувства к нему нравственным ориентиром, но и выходит из привычного ей окружения, шаблонного понятия «американской мечты». Шафак раскрывает идею личностного роста через любовь одним из правил Шамса, которыми он на протяжении всего повествования перестраивает мышление Руми (так же, как это делает Азиз по отношению к Элле): «Жизнь, прожитая без любви, прожита напрасно. Не важно, какова была эта любовь: божественная или мирская, духовная или телесная. Определения порождают ограничения. Любовь же не нуждается в определении. Любовь сама по себе целый мир. Ты либо находишься в центре этого мира, либо предаёшься отчаянию за его пределами»2 [Şafak 2009: 415].
Осмысление категории Абсолюта в произведениях Руми обусловливается культурно-философской картиной мира, присущей арабо-мусульманскому обществу. По А. В. Смирнову, если западное общество развивается в рамках субстанционально-ориентированной картины мира (описывает мир как совокупность того или иного типа субстанций), арабо-мусульманская картина мира может быть охарактеризована как процессуальная (т. е. такая, которая описывает мир как совокупность взаимно-обусловленных противоположений) [История… 2020: 22–23]. На протяжении долгого развития мусульманское богословие на этом основании старалось отойти от представления Абсолюта в рамках субстанций привычных для имманентного мира и пользоваться преимуществами отрицательного богословия. Но в зависимости от того, каким культурным влияниям подвергалась мусульманская мысль в течение своей истории, отрицательное представление о Боге могло дополняться достижениями западного богословия. В частности, суфийская мысль допускала использование символических образов при описании Абсолюта [История… 2020: 21– 22]. По этой причине поэзия получила такое широкое распространение среди суфиев. У Мевляны, как и у его предшественников, отрицательное определение Абсолюта достигается диалектическим мышлением [Джавелидзе 1979: 31–32].
Джалаладдин Руми в своем большом философском сочинении, написанном в форме мас-нави, «Маснави-йи Ма’нави» («Поэма о скрытом смысле»), описывая Абсолют, старается отдалиться от практики катафатического, или положительного, богословия. Такая практика стремится познать Бога через утверждения о его сущности. Однако отрицательное представление Бога в понимании Руми ограничено интеллектуальными способностями мыслящей личности [Джавелидзе 1979: 25–43]: «Он изрек: “Хотя не нуждаюсь я в вашем поминании / и недостойны Меня изображения [ваши], // Однако никогда тот, кто опьянен изображением и воображением, / не может постигнуть Нашу сущность, не прибегая к сравнениям”» [Руми Ч. 2: 104].
Так, Джалаладдин Руми приводит несколько причин непостижимости Абсолюта. Одну из них поэт описывает в присущей ему диалектической манере, свойственной его миросозерцанию [Джавелидзе 1979: 31], – осмысление мира возможно лишь через противоположности: «Страдание и печаль Истинный ради того сотворил, / чтобы через такую противоположность радость сердца стала явью. // Итак, скрытые (вещи) через противоположности проявятся; / так как у Истинного нет противоположности, то Он сокрыт» [Руми Ч. 1: 94]. Адаптированный вариант Элиф Шафак в романе высказывает Руми: «Руми говорил медленно и чётко: “Всевышний Аллах сотворил грусть, чтобы в противоположность ей сильнее видна была радость… Наш мир не просто так назван Алем-и Кевн-ю Фесад ( староосм. мир Разрушения и Бытия )3, то есть Тленный мир. Здесь всё определяется противоположностью. Только у Господа нет противоположности. Потому Он остаётся невидим”» [Şafak 2009: 159].
Суфийский символизм и специфичная суфийская поэтика, которые Руми перенимает в основном от оригинальных восточных поэтов-суфиев Аттара и Санаи [Бертельс 1965: 79–81], стремятся к слиянию понятий Божественного начала и Сущего. Эстетический язык, которым суфизм передает свои категории, описывает привычные философской картине онтологические понятия через систему образов: «любовь» (как связующая сила предметов имманентного мира между собой и с Богом), «возлюбленная» (Бог), «влюбленный» (суфий, вставший на путь единения с Богом), «томление» (от «разлуки» с Богом) и т. д.
В современном обществе этому явлению дают название пантеизм. Но суфийская версия единства мира гораздо шире этого понятия. По убеждению ряда исследователей (см. подробнее: [Бер-тельс 1965; Кныш 1984; Джавелидзе 1979; История… 2020]), она формируется на основе неоплатонического учения о единстве бытия. Один из наиболее влиятельных шейхов суфизма Ибн Араби разрабатывает философскую категорию
«вахдат аль-вуджут» (учение о единстве бытия) [Насыров 2009: 308] как способ решения центральной гносеологической проблемы арабомусульманской философии и теологии – соотношение Единства Бога (таухид) и множественности мира. Если традиционно мусульманские мыслители представляли мир как следствие творения Бога, Ибн Араби закладывает идею тождества Бога и мира с той оговоркой, что это Единство субстанционально неоднородно [там же: 359]. Термин «вахдат аль-вуджут» затрагивает не только описание Божественного Абсолюта в его Единстве с сущим, но и весь процесс суфийской космогонии. Вахдат аль-вуджут определяет процесс эманации Божественного Абсолюта, который принимает в суфийской литературе метафорический символ «изливания» Божественного Света в космос. Этот свет, создав всё сущее и до сих пор поддерживая функционирование Вселенной, должен отражаться от объектов его творения и создавать общую систему Бытия. По этому примеру Руми строит космологию, в которой всё взаимосвязано: «Когда светильник свет свечи извлек, / то всякий, кто увидел его, достоверно [и] ту свечу увидел. // Также до ста светильников, если он [= свет] передался, / видение последнего лицезрением основного окажется. // Хоть от света последнего получи ты его, / никакой разницы нет, хоть от свечи души» [Руми Ч. 1: 143].
Из этой идеи происходит важная метафора «зеркала» Руми [Джавелидзе 1979: 201–203]. В его понимании душа и сердце человека, которые нуждаются в полировке, представляются зеркалом, с помощью которого Бог способен смотреть на мир. Другими словами, само существование Бога выводится из существования всех предметов и сущностей Вселенной. Всё существующее является отражением Божественного, и особенность человека в том, что у него есть возможность полировать своё «зеркало», совершенствовать своё «я», через которое Абсолют сможет наблюдать свои создания.
Элиф Шафак старается адаптировать эту сложную идею под мышление современного читателя. Она не пытается объяснить запутанную суфийскую космологию читателю, а сужает ее до знакомой читателю формы афоризма. С этой функцией в роман введены правила Шамса: «Вселенная едина, одно существо. Все и всё в ней связано невидимыми нитями. Не проклинай никого; не причиняй вреда другому, особенно тому, кто слабее тебя. Не забывай, что судьба одного человека на другом конце мира может сделать несчастной всё человечество» [Şafak 2009: 255]. Или: «Ты можешь найти проявление Бога в каждой частичке Вселенной, ибо Он не в мечети, церкви или синагоге, Он всюду. Как нет выживших среди тех, кто его узрел, так нет среди них и мёртвых» [ibid.: 86]. Образ зеркала в романе тоже лишается теоретической глубины, которой он наделяется в произведениях Руми. Для средневекового суфия гораздо важнее было найти ответ на вопросы бытия, правильно сформулировав их. Элиф Шафак отказывается от онтологически нагруженных метафор Руми в угоду читателю. Любовь, по Шафак, скорее транцен-дирование в «другого», в «ближнего» для достижения гармонии и единства с природой: «Уединение лучше для нас, потому что оно не подразумевает одиночества. Но ещё лучше найти человека, который станет для тебя зеркалом. Помни, лишь в другом человеческом сердце можно увидеть себя без обмана и присутствие Бога в себе»4 [Шафак 2015: 92].
Метафорой «зеркала» и его «полировки» вводится через другой аспект идейной системы Руми и философии суфизма в общем – самосовершенствование на пути к Богу и к Истине или «тарик» (путь), ведущий «человека через моральное очищение и самосовершенствование к постижению “божественных истин” (хакā’ик)» [Насыров 2009: 33]. Как одно из положений суфийской теории и практики Мистический Путь сформировался примерно в X–XI вв. «Конечная цель [Мистического Пути]… – это обеспечение видения полноты Истины за счет аннигиляции своего “я”, избавления с помощью комплекса различных психофизических средств и вспомогательных упражнений от расщепленности сознания» [Смирнов 1993: 191]. Человек, вставший на этот путь, должен пройти несколько стоянок (макамат), достигнув определенное количество психологических состояний (хал) (количество и первых, и вторых зависит от суфийского учения, принятого в ордене, в рамках которого суфий решает достичь просветления). В творчестве Джалаладдина Руми постоянно находят свое развитие идеи об отказе от земных страстей, разрушающих человеческое существование, и достижении таких качеств, как терпимость, великодушие, доброта, противодействие спорам [Джаве-лидзе 1979: 211]. Эти свойства пробуждают божественную природу, заключенную в каждом человеке, полируют его «зеркало». Личностный рост с параллельным приобретением тех качеств, что были одинаково важны для суфия средневекового периода, стало одной из главных целей современного человека. В нынешних условиях, когда для среднестатистического человека понятие Абсолюта размывается, люди стремятся к созданию идеала в собственном лице. Это подтверждается большим количеством психологических книг по личностному росту, онлайн- тренингов и деятельностью коучей, предлагающих развить в себе «навыки лидера», «навыки командного игрока», научиться управлять стрессом или подавлять отрицательные эмоции. Кроме этого, люди обращают внимание на наследие религиозных течений, которые предлагают свои практики по самосовершенствованию духа и тела, как, например, широко распространенная в наши дни система духовных, психических и физических практик йога. В одной из глав Шамс рассказывает Руми о постепенном единении с Богом через тарик [Şafak 2009: 210–212]. Шафак приводит версию пути с семью стоянками, которые позволяют перейти от Развращенного Ложного Я (в тур. версии Nefs-i Emmare) к Чистому Я (в тур. версии Nefs-i Kâmile). Шафак приводит эту категорию как адаптацию мистической ситуации под запросы современного общества. Она предлагает суфийский путь самосовершенствования как очередную практику по достижению внутреннего спокойствия и удовлетворенности. История Азиза, родившегося в шотландской прибрежной деревне, выступает в роли иллюстрации, которую дает Шафак, чтобы показать читателю возможность найти гармонию в быстро растущем динамичном мире. Азиз, оказавшись, по его словам, «на дне» после смерти любимой женщины, находит успокоение в суфийском ордене и становится странствующим дервишем [ibid.: 283–284]. Он стремиться рассказать людям о важности присутствия любви в жизни своей книгой «Сладостное богохульство» и убеждает в этом Эллу по переписке.
Психологические и педагогические функции суфийского пути саморазвития не раз отмечались исследователями (см. подробнее: [Кангиева 2019; Мохтар 2010; Совитова 2007]). По этой причине суфийский путь самосовершенствования интересен как учение с духовно-нравственным мировоззрением. Тарик не предлагает мюриду, ученику на пути самосовершенствования, самостоятельно и бесцельно разбираться в сложных философских категориях. Он предполагает наличие мюршида, наставника, способного помочь пройти первые «стоянки» на пути суфия, но не отобрать при этом у мюрида способность самостоятельно ориентироваться на пути к Истине. Положение наставник – ученик – еще один из аспектов суфийской мысли, перенимаемый Элиф Шафак. В начале романа мы можем встретить относительно подробную схему функционирования суфийских орденов. Орден Бабы Замана (суфийского шейха), в который попадает Шамс перед поездкой в Конью и встречей с Руми, описывает отношения учеников ордена и наставника с бытовой точки зрения. В романе мюршид ограничивает мюрида сначала физиче- ски, затем нравственными наставлениями или логическими парадоксами ведет ученика к просветлению. Такая ситуация в целом отражает реальное положение вещей в средневековых суфийских орденах [Şengül 2010: 662]. Но кроме традиционной педагогической системы мюршид и мюрид должны были обладать глубокой духовной связью, которая, с одной стороны, отражала категорию Единства, а с другой – позволяла передавать как интеллектуальные знания, так и психоэмоциональные навыки суфия. Отношения Эллы и Азиза выстраиваются по той же схеме, что отношения Руми и Шамса. Как и в случае с другими положениями, Элиф Шафак не предпринимает попытку теоретически точно передать связь мюршида и мюрида. Абстрактная идея единства двух человек через идею достижения Абсолюта может показаться современному читателю неубедительной, ее сложно применить в повседневной жизни. Поэтому Шафак развивает привычную для современного реципиента массовой культуры любовную линию. Сюжетная вставка с любовными отношениями Эллы и Азиза накладывается на духовную связь Руми и Шамса. Шамс передает знание своему ученику, пользуясь средневековой моделью коммуникации – диалогом, Азиз пересылает Элле наставления по электронной почте. Шамс провоцирует Руми на социальные акты, ранее недоступные ему в силу жизни в рамках строго очерченной мусульманской властью модели поведения. Азиз провоцирует Эллу на размышления, ранее казавшиеся ей абсурдными и непрактичными.
Из темы любви вытекает тема толерантности . Важно отметить, что для творчества Джала-ладдина Руми характерна как национальная, так и вероисповедная терпимость. По мнению Мев-ляны, конфликты и недопонимание порождаются официальной религией. Религиозные люди часто делают акцент на обрядах, церковных атрибутах и чисто внешнем следовании религиозного закона, не замечая важнейшей составляющей любой религии – стремление достичь истины в лице Бога: «Мы, те, кто видит внутреннее во всех странах,/ Видим сердце и не смотрим на внешнее.// Судьи, которые заняты внешним,/ Выносят решение по внешнему виду.// Стоит [кому-то] произнести ша-хаду и показать веру,/ Эти люди сразу решают, что он – верующий.// Многие лицемеры, которые прибегли к внешнему,// Кровь сотен верующих пролили втайне» [Руми Ч. 5: 197].
Элиф Шафак не только адаптирует эту идею в своем произведении, но и сама играет роль средневекового поэта для современной аудитории, пытаясь донести те же истины. Писательница часто в своих выступлениях призывает к терпимости. Промо-кампания книги «Любовь» сопро- вождалась различными интервью и выступлениями писательницы, где она вводит восточный нарратив и историю романа как средство достижения идеологии толерантности. Во всех ее произведениях звучит призыв к объединению людей любых национальностей, вероисповеданий и ориентаций под эгидой любви. Роман «Любовь» не является исключением. В словах Шамса из Табриза она высказывается о принципиальных различиях в религии только со стороны внешних ее атрибутов: «Есть такие люди, которые каждый месяц Рамадан смиренно держат пост, на каждый праздник режут жертвенного барана в искупление грехов, совершают хадж, каждый день пять раз склоняют голову в молитве, но в их сердце нет места ни любви, ни состраданию. Чего же добиваются такие люди? Разве возможна вера без любви?» [Şafak 2009: 228].
Тема терпимости также раскрывается с введением в сюжет персонажей, которых в обществе считают «неоднозначными». Например, «Проститутка Роза Пустыни» (на тур. Fahişe Çöl Gülü), «Попрошайка Хасан» (на тур. Dilenci Hasan) и «Пьяница Сулейман» (на тур. Sarhoş Süleyman) выступают в роли маргиналов в романе. Элиф Шафак уравнивает всех персонажей в правах на достижение любви, используя положения Джалаладдина Руми, показывает, что человек, вставший на путь саморазвития, уже не ограничен предубеждением общества. Шамс из Тебриза говорит пьянице Сулейману: «Если Возлюбленный Истинного Аллаха войдёт в трактир, трактир станет мечетью. Но если пьяница зайдёт в мечеть, мечеть превратится в кабак. Чтобы мы ни делали в этой жизни, нас определяет наше намерение, не манера поведения и не то, как нас видят другие» [Şafak 2009: 183].
Роман Элиф Шафак нельзя назвать достоверным переложением теоретической базы суфизма. Писательница трансформирует суфийские положения в угоду мажоритарным интересам. Однако, по нашему мнению, которое разделяют не все исследователи романа «Любовь», Элиф Шафак действительно предлагает эффективную адаптацию сложных философских категорий. Популярность романа, к которой привела очевидная эксплуатация общественных интересов (например, поиск собственной индивидуальности в условиях высокой конкурентности, повышенное внимание к меньшинствам и их нуждам), служит одним из средств донесения до современного общества личных убеждений Шафак.
Актуальные проблемы решаются в романе через переложение суфийского мировосприятия на бытовую ситуацию среднестатистической женщины. Усвоение религиозных положений суфизма достигается применением постмодернист- ских приемов, которые гораздо ближе современному читателю. Например, интертекстуальность присутствует в романе в наборе аллюзий к традиционной турецкой культуре, американской агитационной идее, историям авраамических религий, традиционным сюжетам арабо-персидской литературы и конкретным цитатам из Корана.
Один из приемов, на который мы обратили более пристальное внимание в ходе исследования, – это эксплуатация популярной на Востоке истории о Руми и Шамсе (реальные исторические лица, которые стали легендами после смерти) и классического произведения арабо-персидской литературы «Маснави-йи Ма’нави» Джала-ладдина Руми. Элиф Шафак вычленяет из текста поэмы необходимые ей для адаптации сюжеты и идеи, чтобы наложить их на современные проблемы и «подогнать» под мышление современного человека. Например, философская категория единства (вахдат аль-вуджут) становится предложением трансцендировать из собственного Я, чтобы полюбить и понять ближнего. Любовь представляется способом обретения гармонии с обществом и с самим собой, призывом к более рациональному осмыслению толерантности. По Шафак, толерантность – это не просто временная популярная модель поведения, а внутренняя установка, позволяющая достичь Истины, эмоциональной стабильности. Путь суфия, который в Средние века требовал серьезной физической и моральной подготовки, описывается автором как система психологической практики по «устранению» отрицательных качеств.
Список литературы Отражение суфийского миросозерцания Джалаладдина Руми в современной турецкой литературе на примере романа Элиф Шафак «Любовь»
- Бертельс Е. Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. М.: Наука, 1965. 524 с.
- Головина А. О. Имя как маркер идентичности в романах Элиф Шафак // Современные проблемы литературоведения, лингвистики и коммуни-кативистики глазами молодых ученых: традиции и новаторство. Уфа, 2019. С. 46-52.
- Джавелидзе Э. Д. У истоков турецкой литературы. Джелаль-ед-Дин Руми: вопросы мировоззрения. Тбилиси: Мецниереба, 1979. 299 с.
- История арабо-мусульманской философии: Учебник и Антология / под ред. А. В. Смирнова М.: Академический проект, 2020. 623 с.
- Кангиева А. М. Коммуникативная позиция наставника в суфийской педагогике // Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. 2019. Вып. 8. С. 84-93.
- Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм: крат. история. М.; СПб.: Диля, 2004. 453 с.
- Кныш А. Д. Некоторые проблемы изучения суфизма // Ислам: Религия, общество, государство: сб. ст. / отв. ред. П. А. Грязневич и С. М. Прозоров. М.: Наука; ГРВЛ. 1984. С. 87-95.
- Магун А. Любовь у Платона, Аристотеля и неоплатоников: серия лекций «Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?» совместно с проектом Arzamas. URL: https://arzamas. academy/courses/63 (дата обращения: 02.05.2021).
- Мохтар Т. Д. Педагогические идеи Джала-ладдина Руми в системе современных общеобразовательных школ Ирана: дис. ... канд. пед. наук. Душанбе, 2010. 175 с.
- Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма: генезис и эволюция. М.: Языки славянских культур, 2009. 552 с.
- Репенкова М. М. Романы Элиф Шафак как пример структурированного повествования // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. 2014. Вып. 1. С. 20-30.
- Репенкова М. М. Турецкая литература на рубеже XX-XXI веков (основные парадигмы). М.: Наука, 2016. 230 с.
- Руми Джалаладдин. Маснави-йи Ма'нави («Поэма о скрытом смысле»): в 6 ч. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007-2012. Ч. 1: пер. с перс.: О. Ф. Акимушкин, Ю. А. Иоаннесян, Б. В. Норик, А. А. Хисматулин, О. М. Ястребова; общ. и науч. ред., указ. А. А. Хисматулина. 444 с. Ч. 2: пер. с перс. М.-Н. О. Османов; общ. ред., ком. и указ. О. М. Ястребовой. 374 с. Ч. 3: пер. с перс. О. М. Ястребовой; под ред. А. А. Хисма-тулина. 441 с.
- Смирнов А. В. Великий шейх суфизма. М.: Наука: Вост. лит., 1993. 330 с.
- Совитова Э. Т. Становление и развитие суфийской педагогической мысли: дис. ... канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2007. 239 с.
- Шафак Э. Сорок правил любви / пер. с англ. Л. Володарской М.: Азбука, 2015. 416 с.
- Furlanetto E. The 'Rumi Phenomenon' Between Orientalism and Cosmopolitanism. The Case of Elif Shafak's The Forty Rules of Love // European Journal of English Studies, 2013. № 2. P. 201-213.
- Nicholson R. The Mystics of Islam. London: G. Bell and Sons LTD, 1914. 178 p.
- Saeed A., Fatima Z. Texts within Text: An Intertextual Study of Elif Shafak's The Forty Rules of Love // NUML Journal of Critical Inquiry. 2018. № 1. P. 29-IX.
- Shafak E. Forty Rules of Love. London: Penguin Books, 2009. 354 p.
- Qanakli L. A§k Romaninin Dili // International Journal of Humanities and Research. 2020. № 4. S. 65-76.
- §afak E. A§k [Love] / ?ev. Kadir Yigit Us. Istanbul: Dogan Kitap, 2009. 432 s.
- Hüküm M. Elif Safak'in A§k Romaninda Postmodern Bir Unsur Olarak Tasavvuf [Sufism as Postmodern Element in the Novel "Love" by Elif Shafak] // Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2010. № 2. S. 621-643.
- §engül M. Elif §afak'in A§k Romaninda Tasavvuf [Sufism in the Novel "Love" by Elif Shafak] // Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2010. № 2. S. 644-673.