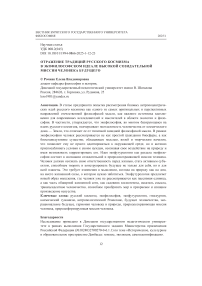Отражение традиций русского космизма в экофилософском идеале высокой созидательной миссии человека будущего
Автор: Рочняк Е.В.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка рассмотрения базовых антропоцентрических идей русского космизма как одного из самых оригинальных и перспективных направлений отечественной философской мысли, как важного источника вдохновения для современных исследователей и мыслителей в области экологии и философии. В частности, утверждается, что экофилософия, во многом базирующаяся на идеях русского космизма, подчеркивает неотделимость человечества от космического дома - Земли, что отличает ее от типичной западной философской мысли. В рамках экофилософии человек рассматривается не как простой гражданин биосферы, а как биосоциодуховное существо, обладающее мыслью, волей и творческим началом, что позволяет ему не просто адаптироваться к окружающей среде, но и активно приспосабливать условия к своим нуждам, осознавая свое воздействие на природу и имея возможность корректировать его. Идея экофутурологии как раздела экофилософии состоит в осознании созидательной и природосохраняющей миссии человека. Человек должен осознать свою ответственность перед жизнью, стать активным субъектом, способным творить и конструировать будущее не только для себя, но и для всей планеты. Это требует изменения в мышлении, взгляда на природу как на дом, на место жизненной силы, о котором нужно заботиться. Экофутурология предлагает новый образ мышления, где человек уже не рассматривается как пассивная единица, а как часть обширной жизненной сети, как садовник космогенеза, искатель смысла, трансцендентное человечество, способное преобразить мир в прекрасное и изящное произведение искусства.
Русский космизм, экофилософия, экофутурология, гносеургия, космический гуманизм, антропологический ренессанс, будущее человечества, эко рациональное будущее, гармония человека и природы, природосохраняющая миссия человека, природоформирующая миссия человека
Короткий адрес: https://sciup.org/148331667
IDR: 148331667 | УДК: 008.2(045) | DOI: 10.18101/1994-0866-2025-1-12-23
Текст научной статьи Отражение традиций русского космизма в экофилософском идеале высокой созидательной миссии человека будущего
Рочняк Е. В. Отражение традиций русского космизма в экофилософском идеале высокой созидательной миссии человека будущего // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2025. Вып. 1. С. 12–23.
Введение. Экофилософия как сравнительно новое философское направление во многом базируется на идейном наследии русского космизма или, по определению BBC, «религии России для эпохи ракет» («Russiaʼs religion for the rocket age») [31]. Это течение является одним из самых уникальных, глубоких и перспективных в истории философской мысли, эффективно объединяет элементы восточной и западной философии, а также идеи Русской православной церкви, направленные на гармоничное развитие человека в его взаимодействии с природой. К сожалению, с русским космизмом широкой аудитории, интересующейся философскими вопросами, стало возможно познакомиться лишь после проведения Первых Федоровских чтений, которые прошли в 1988 г. в Боровске, расположенном в Калужской области.
Именно в рамках русского космизма впервые сознательно вводится космическое измерение в социальное бытие человека, возникает «космический гуманизм, в котором проблема судьбы человека, его духовности и его будущего, проблема целостности человека и смыслозначная функция жизни человека становятся космопланетарными» [15, c. 4]. В трудах мыслителей данного направления получается «соединить заботу о большом целом — Земле, биосфере, космосе с глубочайшими запросами высшей ценности конкретного человека» [15], выразив собой «новое качество мироотношения» [15]. Причем в отличие от западной философской и научной мысли для космизма характерен подчеркнутый синкретизм, неотделимость судьбы человечества от его космического дома Земля. В качестве примера сравним фрагмент речи Ф. Фиорио, произнесённой им в августе 1968 г. на пленарном заседании ЮНИСПЕЙС («UNISPACE» — «United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space»), где открытым текстом предлагается оставить нашу планету, чтобы «уйти к звездам и отыскать новый мир, пригодный для жизни, такой же светлый и чистый, какой была Земля, до того как мы появились на ней много тысячелетий назад» [26, c. 1105].
Русский космизм — идейная база отечественной экофилософии. По определению А. И. Субетто, русский космизм — это «пусть и нечеткая, но все-таки ценностно-ориентированная философско-культурная и одновременно научнофилософская система, обладает целостностью, в основе которой — системо-генетика русской культуры, русской философии и русского человековедения» [20, c. 133]. С момента своего появления в период так называемого «серебряного “осевого времени”» (по определению Д. Г. Смирнова [18, c. 59]) он объединил множество философов, ученых, литераторов, художников, музыкантов и поэтов в единую плеяду, став определенной интегральной мировоззренческой системой, уникальной духовной почвой, на которой взросли самобытные идеи, учения и концепты, отличающиеся в том числе, повышенным провиденциализмом.
Именно поэтому, по мнению Н. Н. Моисеева, это была не школа в научном ее понимании, а скорее, своеобразное течение, «особое умонастроение» в кругах русской интеллигенции [13].
В цикле статей Н. Ф. Федорова, известного как «отец русского космизма», под общим заглавием «Философия общего дела» [25] последовательно раскрывается концепция «природорегулирования». Этот амбициозный проект предполагает восстановление гармонии в хаосе и порядка в беспорядке, что возможно только при сотрудничестве науки и религии. Федоров предложил новую интерпретацию эволюции человечества как активного процесса, где сам человек играет ключевую роль в создании идеальной ноосферы, охватывающей весь Универсум. Он сам характеризовал своё учение как «супраморализм», воспринимая его как практическую философию, которая представляет собой руководство к действию для преобразования мира.
В своем анализе С. Г. Семенова подчеркивает мысль Н. Ф. Федорова о том, «что человек произвел себя сам, через труд и сознание, и есть его собственно человеческая сущность, которая непрерывно расширяется и в итоге должна совершенно преобразить его природно-биологическую основу (превращение дарового в трудовое, рожденного в сотворенное)» [17, c. 11–12]. В этом контексте интересно сопоставить взгляды Н. Ф. Федорова на ключевую роль труда в человеческом развитии с классическими концепциями К. Маркса и Ф. Энгельса. Также важно отметить связи с личностно ориентированным подходом в психологии и педагогике XX в., особенно в работах К. Хорни, Э. Фромма и А. Маслоу.
Особое внимание следует обратить на активное преобразование как микрокосма человека, так и макрокосма Вселенной, которое обозначается термином «о-своение», т. е. «наполнение своим духом», «одухотворение», в отличие от «при-своения» как синонима захвата. Таким образом, «формирование космического измерения самого субъекта — человека и человечества» [2, c. 120] должно, по идее «московского Сократа», стать основой Рая не как мифического места покоя душ праведников, а как реального физического мира, созданного будущими совершенными людьми. И их совершенство не дар богов, а результат постоянного и напряженного труда, работы над собой как в духовном (формирование принципиально новой морали, «супраморализм»), так и физическом плане. В данном русле осмыслял позднее сущность человеческого в человеке и немецкий философ, социолог и социальный психолог Э. Фромм, указывая, что «человеческая природа не только принцип, но и способность» [27, c. 153], человек существует, поскольку «способен размышлять и любить» [там же], а следовательно — и изменять себя, созидать, совершенствовать. Человек не является, а становится Человеком. И основой подобного эволюционного развития являются «правильные», «плодотворные» нравственные принципы, раскрывающие духовный потенциал человека — духовный потенциал взаимопомощи, познания, любви и творчества.
Можно утверждать, что В. Ф. Одоевский стал предшественником глубоких философских концепций Н. Ф. Федорова. Его фантастические произведения, публиковавшиеся в журналах 1830–1840-х гг., отражали разнообразные взгляды на есте- ственные науки, технологии, социальные и этические вопросы, на основе которых автор проектировал будущее русского общества. Исследования наследия Одоевского, происходящего из древней ветви Рюриковичей, начались лишь в конце XX в. и вскоре были сопоставлены с творчеством Жюля Верна. В его утопическом романе «4328 год. Петербургские письма» (1835) присутствуют описания таких технологий, как мобильные телефоны, принтеры и интернет. Однако важнее всего то, что в этом произведении представлена преобразованная цивилизация, где человек не только управляет природными процессами и климатом, но и влияет на свою душевную и психическую жизнь. Более того, здесь впервые возникает концепция космических путешествий как способа решения проблемы перенаселения. В дальнейшем в романe «Русские ночи» (1844) формируется ясное понимание человека как активного, созидательного элемента во Вселенной, единого с Природой и Космосом.
Идею активно направляемой эволюции, которая открывает перспективы космического существования для человечества, можно обнаружить в «Учении Все-мира» (1900) А. В. Сухово-Кобылина. В этом произведении описываются эволюционные этапы человека начиная от «теллурического» (земного) звероподобного «антропофага» и завершая нашим «сидерическим» (вселенским) наследником, бессмертным «экстремумом», который олицетворяет абсолютный дух звездного человечества. Это предшествовало представлениям американских фантастов-трансгуманистов XX в. о возможности «реформы телесного организма» и существовании посткорпоральной формы интеллекта.
В 1920-е гг. советский зоолог и географ, академик Л. С. Берг впервые изложил в науке концепцию направленной эволюции как альтернативу дарвинизму. Этот подход, получивший название «номогенез», был описан в работе «Номогенез, теория эволюции на основе закономерностей», где утверждается, что прогресс обусловлен не борьбой за существование, а сотрудничеством, кооперацией и альтруизмом. Эволюция от простого к сложному происходит закономерно, и человеческое развитие — это лишь одна из стадий процесса, направляемого разумом.
Движение мысли, направленное на самоусовершенствование и трансформацию окружающего мира, имеет глубокие параллели с концепцией софийности, разработанной русскими мыслителями Серебряного века, такими как В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский и Л. П. Карсавин. Этот подход также перекликается с идеей «теургического делания» человека как активного созидателя природы, о котором говорил Соловьев, и с духом философии Г. С. Сковороды.
Подчеркивание важности коллективного творчества и взаимодействия, в отличие от индивидуалистического подхода, а также стремление сохранить не только человечество, но и весь материальный мир зиждутся на русской традиции соборности, развиваемой такими фигурами, как Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, Е. Н. Трубецкой и Н. А. Бердяев. Это также связано с концепцией «метафизического коммунизма мироздания» и философией Всеединства, предложенной В. С. Соловьевым и С. Л. Франком. Идеи единства П.Я. Чаадаева, отзывчивости Ф. М. Достоевского, общего дела Л. Н. Толстого, хорового начала П. А. Флоренского и вселенскости В. И. Вернадского завершают этот комплекс мыслей.
«Антропологический Ренессанс» русского космизма. Таким образом, как мы уже отмечали в статье «Антропоцентричность экофутурологии как раздела экофилософии» [14], несмотря на разнообразие мнений и подходов представителей русского космизма к вопросу о будущем человечества, можно с уверенностью сказать, что ключевым аспектом данного течения является восприятие человека как неотъемлемой части природы, рассматриваемого как «драгоценность мира» (Ж. Лакруа). Это подразумевает, что обеспечение возможности развития данной «драгоценности» должно стать совместной задачей всего человечества [10, c. 18]. Перефразируя эту мысль, мы можем сказать, что это признание особой роли человека как «симфонической личности» (К. Н. Леонтьев) предполагает его сознательное стремление сохранять и развивать изначальную гармонию, присущую Универсуму. В. Ю. Татур справедливо подметил, что эта гармония «является основополагающим принципом организации всех форм бытия. Все жизнеспособное, активное и устойчивое в своей природе гармонично» [22, c. 219].
Уникальность «антропологического поворота», «антропологического Ренессанса» русского космизма состоит в том, что в отличие от культурно-исторической эпохи Ренессанса в центре внимания находится не человек как отдельная личность, пусть и гениальная, творящая, созидающая, совершенная, а человек планетарный, представляющий нашу Землю в космическом пространстве и несущий ответственность за нее. Иначе говоря, здесь нет эгоцентризма западноевропейского Возрождения. Напротив, его «активно-эволюционное отношение к Миру и Космосу» [15, c. 4] представляет собой особый, «космический гуманизм, в котором проблема судьбы человека, его духовности и его будущего, проблема целостности человека и смыслозначная функция жизни человека становятся космопланетарными» [там же]. Таким образом, русский космизм существенно отличается от западных экологических концепций, ориентированных на биологи-зацию. Суть этих идей заключается в позиции, что человек должен стать лишь «обычным представителем биоты» [8, c. 178, 198] и полностью отказаться от попыток воздействия на природу, которая существовала задолго до его появления.
Одной из таких форм биоцентризма является гипотеза Геи, предложенная в 1970 г. английским химиком и климатологом Джеймсом Лавлоком совместно с американским микробиологом Лизой Маргулис. По этой теории Земля представляет собой некий квазиживой организм, обладающий способностью поддерживать глобальный гомеостаз, то есть функционировать как саморегулируемая и самовоспроизводящая система. В этом контексте человек рассматривается как один из многочисленных биологических видов, чье уничтожение может считаться оправданным в интересах сохранения благоприятной среды для других организмов [3, c. 132]. В пользу справедливости подобного тезиса приводится аргумент, что человек довольно поздний результат эволюции и до его появления планетарная биосфера в целом не только обходилась без него, но и «чувствовала себя» превосходно. Характерно в этом отношении и высказывание Ж. Дорста: «Человек появился как червяк в плоде, как моль в клубке шерсти и выгрыз себе местопребывание, выделяя из себя теории, чтобы оправдать свои действия» [4, c. 404].
Однако если исходить из данной концепции, то можно столкнуться с логическим парадоксом, который впервые был рассмотрен К. Шрейдером-Фречетом [32]. Основная идея заключается в том, что если рассматривать человека исключительно как один из множества биологических видов, то его моральные обязательства не превышают обязанности других живых существ. Это приводит к мысли, что его хищнические поступки могут быть оправданы с точки зрения «права».
Тем не менее человек не является лишь биологическим организмом, жизнь которого ограничена его экологической нишей. Он представляет собой биосоци-одуховное существо, обладающее разумом, волей и креативностью, которые не имеют границ и не определяются экологической валентностью. В этом контексте на особую роль человека указывал Н. Н. Моисеев: «Человек, в отличие от других видов не имеет собственной экологической ниши, в которой он может замкнуться и существовать в стационарном режиме. Его экологическая ниша — вся планета со всем, что в ней есть и на ней имеется» [10, c. 166]. В другой своей работе он продолжает и дополняет эту мысль: «Никакой новый живой вид, сделавшись монополистом в своей экологической нише, не способен избежать экологического кризиса. И он может иметь только два исхода: либо вид начнет деградировать, либо, надлежащим образом изменившись, сформирует новую экологическую нишу» [11, c. 7–8].
В отличие от других живых организмов, которые адаптируются к своей окружающей среде в основном на основе инстинктов, человек всегда проявлял активность и целеустремленность в перестройке мира вокруг себя в соответствии со своими потребностями. Это привело к тому, что результаты деятельности человека зависят от него самого, поскольку он единственный на планете обладает осознанием своего воздействия на природу и возможностью вносить изменения в нее. В связи с этим можно вспомнить слова П. Тейяр де Шардена: «Если у человека есть будущее, то оно может быть представлено лишь в виде какого-то гармонического примирения свободы с планированием и объединением в целостность» [23, c. 277].
Идея ответственности человека не только перед собой и себе подобными (см. высказывание Ж. П. Сартра: «Наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, так как распространяется на все человечество» [16, c. 324]), но и перед всей живой и неживой природой как главное условие выживания имеет и продолжает приобретать все большее количество сторонников, среди них: Р. Атфилд, B. C. Голубев, В. А. Зубаков, X. Ленк, Л. В. Лесков, К. Митчем, А. П. Назаретян, А. Печчеи, Н. Ф. Реймерс, Холмс Ролстон III, Ж. П. Сартр, Г. Снайдер, А. И. Субетто, Р. Хигинс, Э. Фромм, Э. Янч и др. А, например, Ю. А. Абрамов говорит уже об ответственности не только за прошлое, но и за будущее и как следствие о радикальной необходимости глобального планирования: «Экологическая и ресурсная ситуация на третьей от Солнца планете — Земле — неотвратимо заставит переходить к директивному всеобъемлющему планированию в глобальном разрезе, к ограничению в потреблении, к государственной собственности и кардинальному перераспределению доходов. Этот новый общественный строй будет носить название «социантизм» — как назвал его по праву первооткрывателя Шарль Фурье» [1, c. 8].
Экофилософский идеал высокой созидательной миссии человека. В свете приведенных доводов следует акцентировать внимание на значимом аспекте экофутурологии — на идеале человека как активного деятеля. Обладая осознанием своих действий, он формирует и проектирует свое будущее, а также будущее всей планеты, «настраивая» гармоничное взаимодействие всех составляющих мировой антропоэкосистемы в соответствии с естественным порядком Вселенной. Отдельно следует отметить стремление такого человека к гармонии в отношениях между всеми элементами системы — от молекул до космических объектов, а также к детальному исследованию структуры системы, ее функциональных механизмов и динамики развития. Учитывая данный подход, подчеркнем и историческую ответственность каждого индивида перед Жизнью в ее многообразии. Мы должны осознавать, что от наших действий зависит будущее не только нашего вида, но и всей планетарной экосистемы. «Человек, — считает Н. Н. Моисеев, — все дальше уходит от остального живого мира благодаря своему духовно-творческому потенциалу, который необходимо поставить на службу будущему» [12, c. 149].
Высокая роль человека в организации глобальных, планетарных процессов зафиксирована также в одном из докладов Римскому клубу (2016). В нем П. Куэн-кель как автор идей «управляемого устойчивого развития» и «компаса коллективного управления» [30] утверждает, что изменение самовоспр иятия человека от пассивной атомарной, индивидуальной единицы до активной части обширной, взаимосвязанной и взаимозависимой жизненной сети может стать началом изменений, которые окажут хорошую услугу как отдельно взятому человеку, так и человечеству, и всей нашей планете [29, c. 86].
Иначе говоря, в рамках экофутурологии как философской идеи об экорацио-нальном будущем именно человек, а не природа, или история, или информация, или что-либо еще является основной причиной изменений, ее активно действующей силой. Однако эпоха такого человека только должна наступить. Как указывал еще Ф. Ницше, человек должен превзойти, преодолеть себя, одержать победу над собой. В своем выступлении на XVIII Всемирном философском конгрессе Т. Роззак утверждал: «Нам отчаянно необходимо вырасти из того унылого и немощного образа человека, который мы унаследовали от двух предыдущих столетий индустриализма. Для этого нужна радикально измененная концепция самих себя, наших первичных нужд, нашего места в природе, нашего призвания в космосе. Сегодня перед нами развертывается картина нас самих — уже не homo faber , не homo economicas , а человечества трансцендентного, искателя смысла» [21, c. 23].
Этот идеал в контексте экофутурологии, который можно рассматривать как мечту-цель, был впервые вербализирован К. Э. Циолковским. Он был убежден в том, что в далеком будущем человечество возьмет на себя роль «садовника космогенеза» [5] и люди не только смогут заниматься исследованием космоса, но и станут активными созидателями, способными влиять на процессы, происхо- дящие на других планетах и в самой Вселенной. Несколько позднее эту же мысль своеобразно озвучил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, утверждая, что «человечество создано Творцом для превращения Космоса в сад Эдема» [6], по сути, повторяя слова мыслителя середины XV в. Дж. Манетти, доказывающего, что человек призван сделать «мир и его красоты, созданные всемогущим Богом ...значительно более прекрасными и изящными и с гораздо большим вкусом» [19, c. 63].
Как уже указывалось нами в другой статье [14], в этом контексте природа, Космос, Вселенная рассматриваются, в первую очередь, как Дом — уникальная сфера, символизирующая жизненную силу, забота о которой является неотъемлемой обязанностью всех ее обитателей. Такое восприятие выходит за пределы гносеологии и приобретает скорее онтологический и философский характер, что придаёт ему выраженные диалектические черты и стимулирует углубленный диалог между различными концепциями на основе дискурсивного подхода.
Хотя концепция власти над природой находит отражение и у «космистов» (например, в трудах Н. Ф. Федорова [24]), она отличается от европейской установки на завоевание, характерной, например, для Ф. Бэкона, М. Монтеня и А. Сен-Симона. Для представителей русского космизма власть не сводится к насилию, а представляет собой знание и способность взаимодействовать с естественными процессами. Удивительным образом (а возможно, и наоборот, совершенно логично исходя из конечной цели — общего дела объединения человечества ради высоких целей) подобные умонастроения по отношению к природе можно увидеть и в работе Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», где он подчеркивает, что «мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо находящийся вне природы, — что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгами принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы в отличие от всех других существ умеем познавать ее законы и правильно их применять» [28, c. 496]. А в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Маркса указывается, что «природа есть неорганическое тело человека... Человек живет природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть» [9, c. 92]. Если следовать данным размышлениям, то следует отказаться от идеи господства над природой; необходимо заботиться о ней и защищать, максимально снижая негативное воздействие человека.
-
Н. Ф. Федоров в своем концепте «гносеургия» связывает процесс познания окружающего мира с процессом проектирования изменений в нем, подчеркивая важность отказа от покорного отношения к природе и перехода к разумному управлению социоприродными связями. Будущее человечества зависит от способности преобразовывать отношения между человеком и природой из состояния противостояния в конструктивное сотрудничество. «Природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою; в нас она достигает совершенства...» [24, c. 521], — писал он. Иначе говоря, «регуляция» природы
подразумевает под собой, в первую очередь, внесение в природу разума и воли. Эпоху преобладания такого восприятия мира в массовом сознании Б. И. Кутырев охарактеризовал как период «деятельной парадигмы» [7, c. 119–122].
В дальнейшем A. A. Горелов продолжил развивать идею соразмерности макро-и микрокосмоса, возникшую ещё в ранней Античности. По его мнению, гармонизация отношений между человеком и природой возможна благодаря наличию внутренней гармонии в окружающем мире, социальному прогрессу и сущностному единству человека и природы, которое представляет собой двусторонний процесс взаимовлияния двух активных, относительно независимых компонентов. Процесс достижения гармонии требует подхода на нескольких уровнях: эколого-образовательном, познавательном и личностно-ценностном [3, c. 6–7].
Подчеркнем, что последние два аспекта играют более важную роль, чем первый. Это обусловлено тем, что акцент на формировании социально-деятельностных и культурно-трансцендентных перспектив развития общества напрямую связан с развитием уникального образа мышления каждого конкретного человека. Такой подход позволяет личности воспринимать реальность будущего в контексте настоящего, что, в свою очередь, способствует оптимизации действий по созданию и формированию будущего. Эти действия могут включать природообразующие, преобразующие и сохраняющие аспекты, учитывая социальные, исторические и метаисторические перспективы.
Также стоит обратить внимание на то, что в рамках экофутурологии гармония человека, природы и культуры преобразуется «из простого условия бытия человека в статус цели, интегрирующей природу, культуру, науку, искусство и нравственность» [2, c. 125], и тем самым переходит из области онтологии в область телеологии.
Заключение. Суммируем в итоге. Русский космизм акцентирует уникальную миссию человека как планетарного существа, ответственного за сохранение и развитие гармонии Универсума. При этом его ответственность включает не только выполнение долга перед собой и обществом, но и радикальное планирование будущего. Экофутурология фокусируется на созидательной роли человека как активного субъекта гармоничного взаимодействия в антропоэкосистеме как общем Доме. Это восприятие расширяет гносеологию, приобретая онтологический и философский характер, что поддерживает диалог разных концепций. В экофутурологии гармония человека, природы и культуры переходит в телеологическую сферу, становясь целью интеграции различных аспектов человеческой жизни.